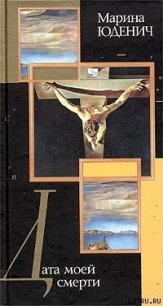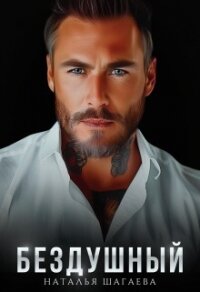Смерть, любовь и мужчины Елены Майоровой - Радько Наталья Ефимовна (первая книга txt, fb2) 📗
— Иди, солдат! — раздраженно кинул самый главный «дед». — Иди, служи».
Вот такой милый случай с экранной Леной Майоровой, затмившей Достоевского и Прудкина для «дедов» Забайкальского округа, подействовавшей на них, как сильный возбудитель. Они по-своему отреагировали на ее особую красоту, на эту страсть, которую чувствуешь даже в ее молчаливом крупном плане. Такая мощная харизма. Запах женщины, что тут еще сказать.
Если бы режиссеры это успели использовать в полной мере. Не понимаю, как Эльдар Рязанов мог пригласить Елену Майорову лишь на крошечный, почти невидимый эпизод в «Забытой мелодии для флейты». Да еще спрятать ее за формой вахтерши. И все равно эта крошечная роль запомнилась.
— Круто берешь, подруга.
Этот чудесный, всеми узнаваемый голос, это чуть картавое «р», как у француженки.
Трудно было найти актрису, чтобы озвучить роль Майоровой, когда ее не стало. В фильме «Послушай, не идет ли дождь» звучит голос Юлии Рутберг. Елена Майорова играла в этом фильме роль Смерти.
ГЛАВА 22
А природа так здорово ее создала для хорошей, для отличной жизни.
(УКРАДЕННАЯ КНИГА)
27 января 1998 г.
«Ума не приложу, Леночка, как я буду жить без тебя, если даже сейчас, когда неведомо, помру я или нет, ничего не понимаю. Я, кажется, еще меньше понимаю, чем в конце августа, сентябре, октябре, — этом земном Страшном Суде. Как же так: так трудно полюбить, а мы полюбили, трудно любить, а мы любили, трудно любить свое дело, а мы любили. Красивы, талантливы, остроумны, веселы, да и как похожи при всей непохожести — и вот тебе. Было все… кроме детей».
Он убивал себя, потому что не мог ответить на собственные вопросы. Такой блестящий, аналитический ум, такая тонкая эмоциональная сфера. И все вдруг оборвалось, потому что он мог существовать, мыслить и творить лишь рядом с ней. Ответить на его вопросы могла лишь она.
26 октября 1997 г. 2.25 ночи.
«Пролистал сейчас дневник и поразился тому, что в нем так мало о Леночке, любимой и единственной, умершей два месяца и три дня назад. Иногда она читала мой дневник и говорила: «Разве это дневник? А где же мы с тобой? Ведь, кроме нас с тобой, тебя ничего не интересует. A-а, ты, наверное, пишешь не для себя, а для других». Вообще-то я собирался вдруг сесть и написать для нее пьесу, все придумывал и, сколько хорошего ни придумал, не придумал главного — о чем? Теперь я точно знаю, что пьесу для Леночки не напишу, хотя знаю, о чем, но… И вот тут-то я замолчу, потому что, как сказала одна девочка, «счастье не знает, что оно счастье, а вот горе знает, что оно горе». Я хотел бы, чтобы Леночка сидела рядом, а я писал свою галиматью. Отныне это невозможно».
Кто-то когда-то, возможно, напишет о них пьесу, создаст фильм. На свете не так уж много подобных сюжетов. А если нет… Значит, некому написать и некому сыграть.
«Ну, о чем я сейчас пишу? Писано-переписано. Кончается жизнь, век, с тобой умерла Россия. Казалось: пока мы есть, с ней ничего не сделается. Мы умели почти что все, но по-настоящему одно — заниматься искусством. Время его закончилось, однако мы-то еще умели это и помнили запах настоящего. Ну не нужен этот запах, но нас-то еще дюжина. А-а, — проживем. Не умея выживать, собирались прожить. Ничего не боялись, а я-то ведь ведь еще и ничего не понимал. Над нами: «Тик-тик», — а я не слышал. Ты слышала и все понимала — и отчаянно хотела ласки. Вот я пишу сейчас на кухне — уже сколько лет сижу здесь по вечерам, а тебе там, на нашей кровати, по-прежнему не хватает ласки».
Это правда. Она что-то слышала лучше других и больше понимала. Борис Щербаков сказал после ее смерти: «Лена была талантливой женщиной, и талант этот выражался не только в актерской работе, мне все время казалось, что ей известно что-то, что нам, земным, не понять».
Однажды, когда вместо Тишинского рынка был создан большой торговый центр, Лену Майорову пригласили поучаствовать в показе мод. В качестве гонорара она попросила маленькую черную шляпку. Она ей невероятно шла. Есть любительское видео в Интернете. Лена в этой шляпке — на выставке Шерстюка в «Манеже». Она смотрит прямо в камеру, приближает к ней лицо и говорит: «Сережка, ты самый лучший, я тебя очень люблю»… Шерстюк глубокомысленно изрекает: «Шляпы падают, потому что на голове нет ни одного инструмента, чтобы их держать»… Они действительно так похожи при всей непохожести. У них были счастливые передышки.
20 октября 1997 года.
«Родная моя, помнишь Иерусалим? Иерусалим, Вифли-еем, Назарет, Генисаретское озеро, Мертвое море? А когда мы были несчастливы? Помнишь мою руку на камне «Снятие с креста»? Как потом отвалился черный ноготь с пальца, отбитого в Чикаго? И этого больше ничего не будет? Довольно того, что было. Ты, моя советская девчонка из рода, замученного большевиками, опускала руку туда, где стоял Его крест, в Вифлеемскую звезду, сказала «люблю тебя» в Назарете, купалась в Тивериадском море, ела арбуз и смеялась оттого, что мне было плохо. Апостол Петр рыбу ловил, а я разбил фотоаппарат. Ты смеялась. Ничего счастливее не бывает. Кроме любви, ничего нет.
А помнишь гостиницу, в которой жил Иван Бунин, когда приехал в Иерусалим? «В следующий раз мы будем жить в ней», — сказал я. «Дорого», — сказала Маша Слоним. «А и хрен с ним», — сказал я. «Шерстюк заработает», — сказала ты.
Я заработаю. Я буду жить в ней. Я обещаю. Я буду жить сразу в двух гостиницах, в «Астере» в Тель-Авиве, в нашей комнате, и в комнатах Ивана Бунина в Иерусалиме. Ты мне сказала, где жить, — где ты была счастлива. Так, как в Израиле, где еще? В Испании, на Коста-дель-Соль, на Тенерифе, в Нью-Йорке? И здесь, где я пишу в тетрадке».
Это были короткие паузы. В основном они работали, думали, смотрели, видели, чувствовали, старались не изменять своему делу — нет, не старались, — не могли бы ему изменить. Они занимались искусством, и лишь она слышала над собой: «Тик-тик». Его до времени спасало сознание того, что она рядом.
19 марта. 1998 года.
Он уже практически в пути к ней.
«Утром просыпаешься, молишься, завтракаешь, и хочется пошутить. Не спеша. Потянуться, зевнуть и спросить: «Ну, и что вчера Шкаликов учудил?» — или: «Как там Мишка Ефремов?» Незаметно втянуться в узнаваемые подробности, пристроиться за трельяжем, наблюдая легкий макияж, зевнуть, чтобы услышать: «Просыпайся и иди в мастерскую. Иди-иди работай, художник», — и пошутить… Чтобы поймать в зеркале твои сердитые глаза, готовые брызнуть мне в самое сердце — от смеха. Ах, как не вовремя — ведь ты спешишь на репетицию, и нога твоя меня сводит с ума, и рука на ноге, и губы, вытягивающиеся к губной помаде, я скребу пальчиком по твоей шее, ты прижимаешь к губам указательный пальчик: «Вечером». Ах, какой мучительный день до самого вечера! Это ж сколько всего придется делать, а сколько не придется — именно потому, что «вечером»…
Вчера, разговаривая с Гогеном по телефону, придумал, что настоящему мужику мало иметь готовое завещание, необходимо, чтобы в случае кончины люди, войдя в комнату усопшего, на столе обнаружили готовый мемориальный фильм. Чтобы не потом, после смерти, какие-то малозначащие в жизни усопшего люди рассуждали о глубине его проникновения в сокровенное, а кто-то в кадре пускал слезу, а кто-то с камерой на бюджетные средства бродил по указанным улочкам, нет, чтобы с ходу на бетамаксе был уже готовый фильм….
Я придумал, что в своем фильме я и разу не должен быть трезвым и глубокомысленным, а всего-то и нужно, чтобы собрать кассеты моих друзей и записать только пьянь, кураж и глупость. Деньги, сэкономленные автором, перевести в вытрезвитель № 15. Правда — вещь более волшебная, чем деликатность. И хоть это не вся правда, но ведь подлинную кассету у Бога не выпросишь…