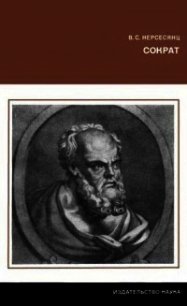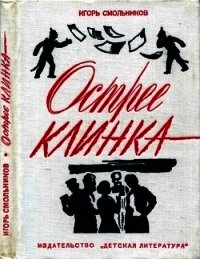Во имя истины и добродетели (Сократ. Повесть-легенда) - Фомичев Николай Алексеевич (книги регистрация онлайн txt) 📗
И гости дружно поддержали:
— Продолжай, Сократ. Говорите хоть весь день, сделайте милость. Спешить нам некуда.
— Так как, Ликон, — спросил Сократ, — ты согласен продолжать?
И Ликон сказал:
— Для меня было бы теперь позором отказаться, Сократ. Только, если ты не против, я сам хочу задать тебе несколько вопросов.
— Так задавай.
— Раз уж я зашел в тупик, то что скажешь о красноречии ты сам?
— Сказать тебе правду, Ликон, по-моему, это вообще не искусство.
— Не искусство?! Так что же оно такое?
— Я боюсь, как бы правда не прозвучала слишком грубо и как бы ты не подумал, будто я поднимаю на смех твое занятие, Ликон, но то, что я называю красноречием, — это часть дела, которое прекрасным никак не назовешь.
— Какого дела, Сократ? Не стесняйся, говори.
И Сократ сказал:
— Угодничества.
— По-твоему, красноречие — угодничество? — рассмеялся Ликон.
— Я сказал, часть угодничества.
— Стало быть, ораторы мало что значат в своих городах, раз они всего лишь льстивые угодники?
— По-моему, они вообще ничего не значат.
— Как! — вскричал Ликон и даже подскочил на месте. — Разве они не всесильны в своих городах? Разве они, словно тираны, не убивают, кого захотят, не отнимают имущество? Не изгоняют из города, кого сочтут нужным?
— Еще раз повторяю: ораторы и тираны обладают в своих городах силой самой незначительной.
— Ну, Сократ, ты несешь несусветный вздор!
— Не бранись, бесценнейший мой, а лучше покажи, в чем я заблуждаюсь. Если нет, давай лучше спрашивать буду я.
И, вскочив, сказал Ликон, в раздражении расхаживая меж столами:
— Спрашивай! Может быть, я пойму, наконец, что ты имеешь в виду.
И Сократ спросил:
— Скажи, как ты назовешь того, который, убивая или изгоняя другого, делает это несправедливо: сильным или слабым — будь то тиран или оратор?
— Сильным назову его.
— Но ведь, судя по твоим словам, сила есть благо, а как же можно благо примирять с несправедливостью?
— Я и не собираюсь их примирять, но скажу, что слаб и жалок тот, кто несправедливо убит или изгнан.
— Вот тут-то мы и расходимся, Ликон, потому что убийцу я считаю еще более жалким и несчастным.
— Это почему же?
— Потому что худшее на свете зло — это творить несправедливость.
И Ликон, усмехнувшись, спросил:
— Выходит, чем чинить несправедливость, ты хотел бы скорее терпеть ее?
— Я не хотел бы ни того, ни другого. Но если бы оказалось неизбежным либо творить несправедливость, либо переносить ее, я предпочел бы переносить.
И, встав перед Сократом, сказал возмущенный Ликон:
— Выходит, если человек несправедливо стал тираном, а его схватили, оскопили, истерзали всевозможными пытками, да еще заставили смотреть, как пытают его детей и жену, а в конце концов распяли или сожгли на медленном огне — в этом случае он будет счастливее, чем если бы ему удалось спастись и стать тираном и править городом до конца дней своих, поступая как вздумается и возбуждая зависть сограждан?
И сказал Сократ:
— По-моему, Ликон, человек несправедливый и преступный несчастлив при всех обстоятельствах, но он особенно несчастлив, если уходит от возмездия и остается безнаказанным. Поэтому-то я и считаю, что для того, чтобы оправдать несправедливость собственную или своих родителей, детей, отечества, красноречие нам совершенно ни к чему. Вот разве что кто обратится к нему с противоположными намерениями, — чтобы обвинить прежде всего самого себя, а затем любого из родичей и друзей, кто б ни совершил несправедливость, и не скрывать проступка, а выставлять его на свет: пусть провинившийся понесет наказание и выздоровеет; чтобы упорно убеждать самого себя и остальных не страшиться, а крепко зажмурившись, сохранять мужество, как в те мгновения, когда ложишься под нож или раскаленное железо врача, и устремляться к благу и прекрасному, о боли же не думать вовсе; и если проступок твой заслуживает плетей — пусть тебя бичуют, если оков — пусть заковывают, если изгнания — уходи в изгнание, если смерти — умирай, и сам будешь первым обвинителем, и своим и своих близких. Вот на это и употребляй красноречие, чтобы преступления были до конца изобличены, а виновные избавлены от величайшего зла — от несправедливости!
И, с яростью ударив по столу кулаком, заорал Ликон:
— Хватит! Я не позволю дольше издеваться над величайшей святыней государства — риторским искусством!
И тогда вскочил из-за стола Платон и со словами:
— На грубость я привык отвечать грубостью! — схватил Ликона за шиворот и вытолкнул его разжиревшую тушу в дверь.
И хохот гостей приветствовал поступок Платона, и хозяин сказал, подняв бокал:
— Выпьем, друзья, за новую победу Сократа!
Критон же, перегнувшись через стол, шепнул Сократу:
— Боюсь, дружище, что эта победа слишком дорого тебе обойдется. Да и Платон оказал тебе плохую услугу…
— Что ты имеешь в виду? — спросил Сократ.
— Ты будто дитя, Сократ. Разве ты забыл, что Ликон — лучший друг Анита?..
И Сократ, рассмеявшись, сказал:
— Тебе все козни врагов мерещатся! Выпей-ка лучше вина, Критон!
И кончили спор друзья умеренным возлиянием.
…И то, чего Сократ по старости лет и спокойствию совести своей не ожидал, но чего опасался Критон, знавший хорошо коварство врагов Сократа, свершилось вскоре же: Анит, Мелет и Ликон, объединившись, подали на Сократа в суд, обвинив его в непочитании богов и порче молодежи.
Когда же именитейший на всю Элладу ритор Лисий, собравшись защищать Сократа, показал ему заранее написанную речь, мудрец, ознакомившись с ней, сказал: «Прекрасная речь, мой Лисий, но для меня неподходящая». «Как же хорошая речь может быть неподходящей?» — удивился Лисий. И Сократ сказал: «А разве прекрасные наряды были бы подходящи для меня?»
И пришел к нему государственный вестник и повел его на суд афинян…
Глава восьмая
ВО ИМЯ ИСТИНЫ И ДОБРОДЕТЕЛИ

Цикута окончательно сделала Сократа великим.

И, усевшись калачиком против судейского места, поближе к поджидавшим его друзьям, Критону, Эсхину, Симону, Симмию, Критобулу, Платону и Аполлодору, улыбнулся им Сократ своей спокойной лукавой улыбкой и как-то незаметно погрузился мыслью в разрешение давно его занимавшей загадки того, что есть народ и в чем его отличие от скопища толпы. И унесся в эти мысли так далеко, что не видел и не слышал, как вошли из боковой калитки судьи в черных хитонах и, усевшись на кошму, открыли суд, и только как сквозь сон увидел выступившую из толпы сидящих фигуру Мелета в красном одеянии и с длинным свитком обвинительной речи в руках, но смысл того, что он зачитывал, стал доходить до Сократа не скоро и лишь тогда, когда осознались слова обвинений. Мелет же, упиваясь звуками собственного голоса, читал, как читают декламаторы в театре:
— …И вот, когда народ, не щадя своих сил, укрепляет самую справедливую власть в Элладе, нашелся человек, который порождает скверну неверия в душах людей, человек, за свой образ жизни и злонамеренные речи давно осужденный народным мнением, но по какой-то иронии судьбы до сих пор пребывающий на свободе. Я выступаю обвинителем, судьи, по воле голоса справедливости, дабы вы, афиняне, своим приговором избавили всех нас от зла, распространяемого этим человеком! Ибо как можно еще назвать все то, чему он учит нашу молодежь! Как долго, афиняне, будет он не признавать богов, которым поклоняются Афины? Как можно позволять ему кичиться дерзостью, с которой он хулит именитых ваших избранников, афиняне?! Неужели не тревожит вас разврат умов, в котором погрязает наша молодежь, прельщенная его умением выдавать за правду ложь? Разве мы не видим, что Сократ преступает закон? И может ли закон быть снисходительным к такой безрассудной наглости? Ведь Сократ не бежал от позора, как сделал бы всякий, в ком осталась хоть крупица совести, а нагло явился в суд! Уж не рассчитывает ли он разжалобить судей своим хваленым красноречием? Нет, Сократ, сегодня это тебе не удастся, тебе не избежать справедливой кары! Ибо для тех, кто развращает молодежь, надежду нашу, и вместо богов признает знамения каких-то даймониев, уготовано единственное наказание — смерть!