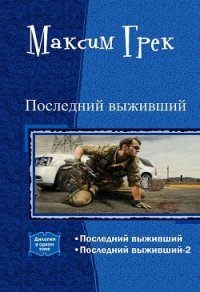Максим Грек - Громов Михаил Николаевич (книги бесплатно .TXT) 📗
Сам канон, как пишется в сказаниях о Максиме, создан им «по извещению и наставлению» Параклита (24, прил. XX). По силе своего воздействия он напоминает «Miserere» Савонаролы, написанное им. в темнице перед казнью. Канон вместе с молитвой включен автором в самое раннее прижизненное собрание его сочинений (3, л. 408 об. — 416). Являясь завершающим текстом Иоасафовского сборника, он несет особую смысловую нагрузку. Как справедливо отмечает Н. В. Синицына, прижизненные, правленные афонцем как составителем и автором собрания сочинений имеют продуманную логическую систему и глубокое нравственно — философское содержание, это подлинные средневековые суммы. С одной стороны, в них систематически излагаются взгляды Максима по догматическим, философским, политическим проблемам, с другой — доказывается несправедливость выдвинутых против него обвинений. «Картина авторского мировоззрения постепенно развертывается перед читателем; здесь — единый, именно как Summa задуманный и выполненный комплекс» (106, 175).
В средневековой литературе часто употребляется слово сердце в гносеологическом плане. «Собирая мысли благие в сердце своем», «вложи бог мысль в сердце», «омрачил дьявол сердце», «злую мысль в сердце смыслив», «просветив сердце свое» — эти почерпнутые из древнерусских текстор выражения показывают особое представление о процессе познания, в котором эмоциональному началу отводится значительная, если не доминирующая по сравнению с рассудком, роль. Эта концепция, малоисследованная в нашей философской литературе, имеет немалое значение для понимания особой линии в гносеологии, считает В. Бистерфельд (см. 141, 3, kol. 1100–1112). В Новое время ее яркими представителями являются Паскаль и Фейербах.
Просвещение сердца Параклитом афонец считает необходимым условием познания. «Тяжкосердии», «высокоумные сердцем» не способны приобщиться к добру и истине, они навсегда останутся «неразумнии и коснии мыслью». Сколь жаль этих омраченных людей, ибо «сердце их суетно», им «вмещается в сердце враг и ослепляет душевныя очи» (14, 7, 492–493). Сердце нуждается не только в просветлении истиной, но и в умягчении милосердием, отзывчивостью, добронравием. «Жестокосердые», не способные к состраданию люди не могут понять себе подобных, их чуждается сама истина, тесно связанная с добром. «Убоимся, восплачем, своея злобы удалимся, дела истиннаго покаяния покажем», — увещевает Максим, призывая душу и сердце «теплыми слезами себе измывай всегда» (14, 2, 247).
От сердца неотделима любовь, их гносеологическая связь состоит в том, что любовь очищает сердце, а сердце просветляет разум. Как говорит Августин, «мы познаем в той мере. в какой любим». А для Паскаля «любовь» («сердце») прокладывает разуму дорогу к вещам и людям (122, 341). Объединяющая мир «любовь» Эмпедокла, вдохновляющий на познание «эрос» Платона, «сердце» Фейербаха, как средоточие человеческой сущности, выражают то уважение к эмоциональному содержанию процесса познания и жизнедеятельности человека, которое порою забывается в более поздних рассудочных концепциях Максим ставит любовь «превыше всего», часто упоминает о ней, считает, что подлинное совершенство, в том числе в познании, возможно не «хитрословным высокоумием», но «нелицемерною ко всем человеком любовию» (14, /, 77). Он уподобляет сердце «сладкогласным гуслям», на которых ум как «добрый хитрец» слагает прекрасную песнь — образ, подсказанный Максиму Греку библейским текстом.
Нельзя обойти вниманием и то, что познание связывается Греком с Христом, осмысленным в гностической и патриотической литературе как воплощенное Слово, как столь полисемантично толкуемый в греческом языке Логос. Максим говорит, что это «не прост некто мудрец мира сего, но… иже есть ипостасная Бога и Отца премудрость» (там же, 110). Истина как бы сошла на землю, шествовала между людьми, исцеляла от болезней, освобождала от тяжкого гнета социальной несправедливости. По словам евангелиста Иоанна, «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан., 8, 32). Это был сознательный уход в духовную сферу, который не делал людей счастливее в материальном отношении, но помогал переносить тяжесть существования в «безмерно горьком мире» (Данте).
В этих условиях получает особый гносеологический и социальный смысл безмолвие. Афонец пишет, что нужно «молчание любити», «сокрывать в мысли своей» самые заветные думы, но «делом всегда исполняеши та прилежно» (14, 2, 18). Средневековое безмолвие имеет свой глубокий семантический смысл, ибо оно, по тем представлениям, лучше всего приобщает к истине, отвлекая от суетного многоречия и трескотни словесной: «Сего ради бегай собраний миромудренных, молчание же удобее соединяющеся Богу, возлюби всегда» (там же, 48).
Признавая непосредственное переживание субстанционально понимаемой истины высшим видом познания, Максим не отрицает других способов освоения мира. В его творчестве можно выделить успешно им применяемые научный, художественный и символический методы познания и выражения идей. Проводя тщательный текстологический анализ источников, обосновывая принципы перевода книг, указуя на связь мышления и языка. Грек выступает как ученый. Работая в различных литературных жанрах, умело используя выразительные возможности греческого и русского языков, создавая поэтические сочинения, он подобен писателю и поэту. Но наибольшую выразительность его манера изложения приобретает тогда, когда он пользуется философско — символическим методом: образы Василии как терзаемого царства, души как «зерцала» или корабля, философии как кипариса.
Символизация, весьма присущая средневековому сознанию, выступает как своеобразный заменитель научно — теоретического мышления, ею широко пользуются для глубокомысленной интерпретации эмпирических фактов. Символ выступает не просто знаком каких-либо объектов, но как «идеальная конструкция вещи» (А. Ф. Лосев), содержащая все ее разнообразие и создающая «перспективу для ее бесконечного развертывании в мысли, перехода от обобщенно — смысловой характеристики предмета к его отдельным конкретным единичностям» (121, 5, 10). Символизировалось все: прошлое, настоящее, будущее, вещи, явления, слова, жесты, камни, цветы, звезды, поступки, мысли. Известно, например, что библейские события и реалии истолковывались в четырех смыслах: буквальном (историческом), зашифрованном (аллегорическом), нравоучительном (тропологическом), сакральном (анагогическом). «Иерусалим в буквальном значении — земной город; в аллегорическом — церковь; в тропологическом — праведная душа; в анагогическом — небесная родина» (45, 76). Максим указывает, что нужно не «телесно» понимать Библию, «да уразумеем ли, какова пропасть погибели отворена есть истолкующим невнимательне» Священное писание (14, /. 285–286). Хотя он не выделяет 4–кратную шкалу византийских и западных богословов, он часто прибегает к символической интерпретации почитаемых текстов, особенно Псалтыри, оправдывая тем средневековое понятие о философе как мудром истолкователе эзотерической литературы (см. 86. 9 — 14).
Используя различные методы, черпая знания из разных источников, но не без разбора, афонец сравнивает себя с трудолюбивой пчелой, собирающей нектар многих цветов: «…хотех и аз пчелам поревновати, летающим убо по всяким цветом, но не от всех събирающим мед» (14, /, 236). Образ «делолюбивой пчелы», чрезвычайно популярный с древности, ассоциировался на Руси с имевшим широкое хождение сборником сентенций древних и средневековых авторов, преимущественно греческих, получившим аналогичное название. Сам же образ пчелы приписывался Исократу: «Яко же бчелу видим по всем садом и зельем летающе, от когождо их полезная приемлюще, такоже и уноши учащеся философьи и на высоту мудростью хотяще възити и отвсюду лучыпая сбирають» (104, 167). Сборники подобного рода, кроме краткого имеющие и пространное название: «Речи мудрости от еуангелья и от апостола и от святых мужь и разум внешниих философ», были весьма распространены в средние века. Они отражают еще один путь развития философского знания — афористический.