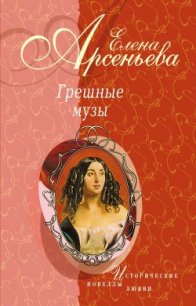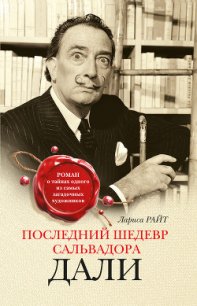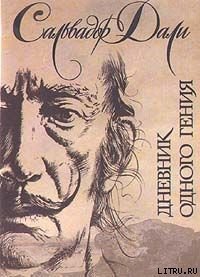Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим - Дали Сальвадор (читать полные книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
Как-то вечером я выслушал признания одного художника, искренне восхищенного моим творчеством. Он горько сетовал на свое умственное и материальное нищенство. Может, он надеялся растрогать меня и затем вернуть долг? Так это или иначе, но в конце, подавленный моим долгим и равнодушным молчанием, он сказал со слезами на глазах:
– Но вас это не интересует… Что вы скажете?
– Я? Я стою очень дорого.
Он уткнулся в платок сомнительной чистоты и тихо заплакал. Я отдал дань своему дендизму, и на миг меня охватил порыв сострадания. Мне пришлось сделать усилие, чтобы не поддаться ему. Нежно положив руку ему на плечо, я заметил:
– Отчего бы вам не повеситься… или броситься вниз с какой-нибудь башни?
За этот год я познал множество элегантных женщин, которыми – устно и эротично – насытил свои самые яростные желания. Я стал избегать Лорку и группу, которая все больше становилась «его» группой. Это была кульминация его непреодолимого влияния на всех и, пожалуй, первый случай в моей жизни, когда я испытал муки ревности. Иногда мы прогуливались по улице Кастелана, направляясь в кафе, где были завсегдатаями. Я, зная, что Лорка будет блистать там подобно бриллианту, внезапно убегал и исчезал дня на три. Куда я исчезал? – никто никогда не мог выпытать у меня тайну этих побегов, и я пока не намерен ее раскрывать.
Одна из моих любимых забав заключалась в следующем: я погружал в виски банковские билеты и ждал, чтобы они размокли. Я любил это делать перед одной из полусветских дам, причем мы с утонченной скупостью обсуждали указанные на них суммы. И вот после года распущенности мне сообщили о моем окончательном исключении из Академии. Официальный указ об этом, подписанный королем, появился в «Ла Гасета» 20 октября 1926 года. В своем «Автопортрете в анекдотах» я изложил инцидент, который определил мое исключение. Могу только добавить, что я не был ни удивлен, ни разозлен. Любое жюри решило бы так же.
Я надеялся, что этот окончательный приговор положил конец моей разгульной жизни. Мне хотелось вернуться в Фигерас и поработать в течение года, а потом убедить отца, что мне нужно продолжить образование в Париже. А уж в Париже я бы показал себя!
Последний день в Мадриде. Я исходил сотни улиц, которых раньше не замечал, – они так глубоко отражают сущность этого города, в котором народ и аристократия связали свою судьбу в одной и той же истории. В кристалльном воздухе октября Мадрид блестел как большая голая кость, слегка окрашенная оттенками розового цвета. Вечером я уселся в своем любимом уголке Ректорского клуба и, против обыкновения, выпил всего два виски. Я так и просидел в углу до зари, а когда вышел, ко мне пристала какая-то маленькая старушонка в лохмотьях, прося милостыню. Я не обратил на нее никакого внимания и направился к Испанскому Банку, где миловидная девушка продавала гардении. Я дал ей сто песет за весь букет, потом внезапно вернулся к этой малышке и подарил ей его. Немного отошел и обернулся, чтобы увидеть ее в рассеянном свете зари, вросшую как соляной столб в край тротуара. Корзина гардений в ее руках была как белое пятно.
На другой день я уехал с пустыми чемоданами, просто поленился уложиться. Мое возвращение в Фигерас потрясло семью. Исключен и без единой рубашки, чтобы переодеться! Какое ждет меня будущее! Чтобы утешить их, я повторял:
– Клянусь, я думал, что уложил чемоданы, но должно быть, перепутал со своим отъездом два года назад.
Отец был подавлен. Исключение разбило его надежды, что мне удастся сделать официальную карьеру. Он и сестра позировали мне для рисунка графитом, одного из самых удачных в тот период. В выражении его лица можно уловить грусть, снедавшую отца в те дни. Эти рисунки сделаны в строгой классической манере, я все больше пытался связать свой опыт кубиста с традицией. Несколько моих картин были выставлены в больших галереях Мадрида и Барселоны. Далмо, с фигурой одного из персонажей Эль Греко, посвятил мне персональную выставку в своем магазине, одном из самых анти-авангардистских. Об этом много толковали. Я оставался равнодушным к спорам, занятый работой в фигерасской мастерской.
Но слухи о том, что в Испании появился новый художник, донеслись и до Парижа. Пикассо, проезжая через Барселону, увидел мою «Девушку со спины» и очень хвалил ее. Об этом я узнал из письма Поля Розенберга, который просил фотографии моих работ, а я нарочно их не выслал. Я знал, что в день моего приезда в столицу всех их заткну за пояс.
Впервые я пробыл в Париже всего неделю с тетушкой и сестрой. Состоялось три важных визита: в Версаль, в музей Гревен и к Пикассо. Меня представил Пикассо художник-кубист Мануэль Анхело Ортис из Гранады, с которым меня познакомил Лорка. Я приехал к Пикассо на улицу Ла Боети такой взволнованный и почтительный, как будто был на приеме у самого папы.
– Я пришел к вам прежде чем посетить Лувр, – сказал я ему.
– И правильно сделали, – ответил он.
Я принес бережно упакованную маленькую картину «Девушка из Фигераса». Он рассматривал ее в течение четверти часа и не сделал ни одного комментария. Потом мы поднялись на верхний этаж, и Пикассо показал мне множество картин. Он ходил взад-вперед, таскал огромные холсты и устанавливал их на мольберте. В загроможденном хаосе мастерской он находил все, что хотел показать мне, совершая титанический труд для меня одного. С каждым следующим холстом он бросал на меня такой мудрый и живой взгляд, что я вздрагивал. Я уходил, также не сказав ни слова. На пороге мы обменялись взглядами, означавшими: «Понимаешь?»-«Понимаю!»
Вернувшись, я устроил вторую выставку в галерее Далмо и послал картины в Зал Иберийских художников Мадрида. Моя популярность укрепилась.
Как-то пришла телеграмма от Жоана Миро, уже хорошо известного в 1926 году, он сообщал мне, что приедет в Фигерас в сопровождении своего торговца Пьера Лойба. Мой отец разволновался и поверил, что мне необходимо поехать в Париж надолго. Миро понравились мои последние картины, и он великодушно взял меня под свое покровительство. Зато Пьер Лойб отнесся к моим произведениям с искренним скептицизмом. Пока Лойб беседовал с моей сестрой, Миро отозвал меня в сторонку:
– Эти парижане, – сказал он, – намного глупее, чем мы думаем. Вы убедитесь в этом, когда приедете. Но это не так легко, как кажется.
А через неделю я получил письмо от Пьера Лойба, который, вместо того, чтобы предложить блестящий контракт, написал мне дословно следующее: «Ставьте меня в известность о своей деятельности, но то, что вы делаете, для начала очень невнятно и лишено индивидуальности. Работайте, работайте! Развивайте ваши бесспорные способности. Надеюсь, что придет день, когда я смогу заняться вами».
Почти одновременно отец получил письмо от Миро, который объяснял ему, как мне необходимо поехать в Париж, и заканчивал так: «Я совершенно уверен, что вашего сына ждет блестящее будущее».
Примерно в то же время Луис Бунюэль рассказал мне идею фильма, который он хотел поставить, а его мать финансировать. Его идея показалась мне сомнительной и примитивно авангардистской: ожившая от первой до последней страницы газета. Финал: газету подметает с тротуара гарсон из кафе. Я сказал, что это отдает дешевой сентиментальностью, не стоит ломаного гроша, но у меня есть другой сюжет, короткий и гениальный, совершенно иной, чем современное кино. И правда, сценарий у меня был уже написан. Бунюэль был в восторге и сообщил мне, что приедет в Фигерас. Мы стали работать вместе, уточняя второстепенные детали фильма, который должен был называться «Андалузский пес». С нашим произведением Бунюэль уехал в Париж. Он взялся за постановку и монтаж. Немного позднее, уже находясь в Париже, я вблизи наблюдал за ходом нашего фильма, участвуя в постановке и бесконечно беседуя каждый вечер с Бунюэлем, который автоматически соглашался со всеми моими предложениями.
Но до этого было еще два месяца. Пока я готовился к отъезду, я оттачивал свою линию поведения с помощью маленького ядра барселонских интеллектуалов, группировавшихся вокруг журнала «Друзья искусства». Я управлял этой группой по своему желанию и своими трюками будоражил артистическую среду Барселоны так же, как в Фигерасе. Этот опыт пригодился, прежде чем подняться к вершинам Парижа, особенно для проверки эффектности моих самых разных и противоречивых «трюков». Накапливаясь, они невольно уже входили в Историю. У меня всегда был дар легко подчинять себе свое окружение и какое наслаждение, когда вокруг тебя люди, входящие во мрак этого чистилища без малейшего колебания.(Совсем недавно, в предисловии каталога из моих выставок, подписанном моим псевдонимом Хасинто Фелипе, я, между прочим, предложил написать обо мне эссе с примерным названием «Антисюрреалист Дали». Мне нужны были различные доводы, своего рода «паспорта», поскольку я сам слишком большой дипломат, чтобы первым произнести эти слова. Статья не заставила себя ждать (заглавие было приблизительно такое же, как мое) и появилась в скромном, но симпатичном журнале, издаваемом молодым поэтом Шарлем Анри Фором.)