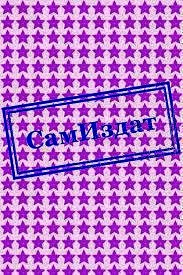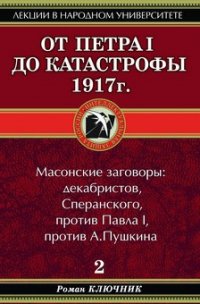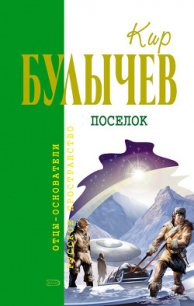Мои воспоминания (в 3-х томах) - Волконский Сергей (читать книги полные TXT) 📗
Как человека совершенно не затронутого этой актерской пошлостью должен помянуть прекрасную артистку Марию Александровну Славину. Это был человек исключительный в театральной среде, но в особенности исключительный в те времена. Только большие художники сцены являют такое безразличие к публике. И удивительно, как, несмотря на падкость к пошлым приемам заискивания, публика все-таки ценит тех, кто перед ней не лебезит. Карьера Славиной прошла в стороне от того духа рекламы, который был внесен в оперу Фигнером. Она была прекрасная певица, контральто, но из таких контральто, которые пели "Кармен". Ее пение было настоящее классическое пение, никогда не выходившее из рамок строгого самообладания. Кто слышал в ее исполнении арию матери, боярыни Морозовой, в "Опричнике", -- "Снега белей", тот не забудет ее. Сценические образы, к сожалению, не переходят в потомство. Но если бы хотелось что-нибудь закрепить на все времена и в назидание будущим исполнителям (в данном случае -- исполнительницам), то это Славину в роли Графини, "пиковой дамы". Это был образ, какого я больше не видал в этой опере. Она была еще молода, когда по настоянию Чайковского приняла эту роль, но она в ней не состарилась, она с годами входила в нее все больше и больше, и она закрепила ее в памяти видевших ее как нечто неизменное, как тип, как образ, от которого нельзя уклониться и которого вместе с тем нельзя достичь. Славина -- это Графиня, а Графиня -- это Славина. Иной не может быть, а подобной не будет...
Рядом с блестящими, но легковесными, шипучими успехами Фигнера в партиях Ленского, Германа и некоторых иностранных шла серьезная работа в операх Римского-Корсакова и Вагнера. Здесь сыграл службу, которую не забудет ни один ревнитель родного искусства, наш славный тенор Ершов. С замечательным голосом необыкновенной силы, но, к сожалению, иногда сдавленным, с настоящим музыкально-драматическим увлечением, с большой молодостью, с какой-то детской беззаветностью, этот человек провел в жизнь русского оперного театра такие образы, как Садко, Гришка Кутерьма, Тристан, Зигмунд, Зигфрид. В его музыкальной природе было что-то могучее, что поднимало и увлекало, несмотря на его неприятный недостаток сдавленного горла. Никогда никакое прикосновение рекламы не омрачило его имени, и самые лучшие воспоминания чистого искусства связаны с ним. В смысле сценическом у него был один очень неприятный недостаток: он иногда был как-то связан, весь напряжен. Это было результатом какой-нибудь дурной привычки, которую ни один режиссер не заметил, вероятно, против которой никто не предостерег его в те годы, когда можно было еще вылечиться, и которая, как все дурные привычки, с годами увеличивалась. В минуты, когда роль требовала полной расслабленности, он бывал напряжен до последней степени. Так в "Китеже", в роли Гришки, привязанный к дереву, когда он, казалось бы, совсем надломлен, он давал впечатление какой-то натуги. Он не умел быть увядшим. Впрочем, это одна из труднейших задач сценического искусства -- быть ненапряженным... И однако, в этой же роли Гриши Кутерьмы Ершов являл наивысшее, что я видел на оперной сцене в смысле ритмичности, то есть согласования движения с музыкой. Такой разработки движения в согласии с музыкальным рисунком мы, конечно, в этой роли больше не увидим. В сцене опьянения каждое его движенье, казалось бы случайное (как подобает движениям пьяного человека), было пригадано, было направлено, вовремя остановлено*. Да, Ершову можно поставить памятник за ту службу, которую он сослужил русскому оперному искусству.
______________________
* Когда-то я подробно разбирал вопрос о применении ритмического принципа в опере -- в статье "Оперные размышления", напечатанной в последнем номере журнала "Музыкальный современник", в последнем номере перед революцией. Какой прелестный был журнал. Если бы в каждой области знания и искусства был в России такой журнал, я бы сказал -- вот культурная страна. Но он погиб, как и все прочее культурное. Издавал его сын Римского-Корсакова, Андрей Николаевич.
К сожалению, хороший пример редко действует. Люди хотя и восхищаются, а не видят причины, не отдают себе отчета в средствах, которыми достигнуто то самое, что их восхищает. Так ритмичность Ершова проходила мимо ушей и глаз его товарищей и самих режиссеров. Ритмический принцип был им вообще чужд. Сколько раз я обращал внимание сценических руководителей на беспорядок, в котором проходят на сцене процессии: идут как попало, одни скорее, другие тише, одни догоняют, другие отстают, скучиваются. Всегда я наталкивался на ответ, доказывавший или непонимание, или сознательную враждебность к ритмическому принципу.
-- Зачем вы позволяете им идти как попало? Зачем не заставляете идти с музыкой вместе, в такт?
-- Как можно! Ведь это будет солдатчина!
-- Какая же солдатчина, когда вы будете вместе с музыкой ускорять или замедлять?
-- Ах нет, это будет некрасиво. Это будет смешно...
В тех редких случаях, когда человек понимал мое намерение, он все же выставлял такое препятствие, против которого не приходилось спорить:
-- Да, конечно, этот беспорядок в движении очень печален, но что же поделать, когда каждый раз нам дают других статистов: одних научишь, а на следующее представление приходят другие...
Так никогда я не мог добиться, не говорю уже о ритмически поставленной сцене, но хотя бы ритмического марша.
Как мало чувствуют наши режиссеры красоту толпы на сцене и сколько можно достигнуть путем музыкального ее воспитания; вот пример. Я уже давно не был директором, но многие в театре оказывали мне доброе внимание и обращались, когда я приходил на представление, с тем или иным вопросом. Так заговорили мы с оперным режиссером по поводу похорон Зигфрида. Под удивительную музыку вагнеровского марша проходила невозможная картина разгильдяйства. Хористы шли без всякой сосредоточенности: никакой мимики, никакого порядка в шествии и никакого настроения в шествующих. Я сказал об этом. Режиссер обещался приструнить хористов. Я воспользовался случаем и посоветовал ему приказать им оборотить копья концом вниз -- ненужное оружие, знак печали... На следующий раз пошел посмотреть. О ужас! Во-первых, настроения никакого, по-прежнему беспорядочное слоняние, шатание из стороны в сторону. Но что же они сделали с копьями? Они действительно повернули их концами вниз и шествовали опираясь на эти посохи, тыча в землю остриями!..
О музыкальное движение! Как мало о нем думают, как мало оно известно. Людям, об этих вопросах не думавшим, даже трудно объяснить, да и не хочу из этих страниц делать трактат о ритмизации сценического движения. Но вот случай, о котором хочу вспомнить. Есть в "Пророке" Мейербера сцена, в которой Иоанн Лейденский с мечом в руке поет перед хором. Хор слушает и под влиянием его слов опускается на колени. Что было это коленопреклонение! Как это неуклюже было! Всякий занят своим соседом, чтобы не задеть; опускаются врозь, расправляя фалды кафтанов, смотрят друг на друга или себе под ноги и наконец валятся на подогнутое колено как куль какой-нибудь. Я сказал режиссеру, старику Осипу Осиповичу Палечеку: "Скажите им, чтобы не смотрели друг на друга, чтобы вообще ни на что не смотрели, кроме меча в руке Ершова; пусть не будут заняты своим коленопреклонением, пусть колено подгибается, а глаза остаются пригвожденными к мечу Ершова, и, пока меч поднимается, пусть так же медленно опускаются на колено. Да запретите им "играть", что бы то ни было изображать, а только уставиться глазами и на подгибающееся колено опускаться". Старик Палечек был рутинер в своем деле, но он обладал истинным пониманием того, что целесоответственно, и я никогда не забуду, как загорелись его глаза, когда я ему это сказал. Так он передал, так они сделали. Получилась картина гипнотизации целого хора. И, конечно, вся фигура Ершова приобрела такую повелительную силу, какой она никогда бы не имела без этого хорового повиновения. Вот сторона сценического искусства, тайна которой лежит в сочетании видимого движения с музыкой, в ритмизации движения. Все это я всегда ощущал, но привел в сознание и ясно понял только когда познакомился с Далькрозом и его системой...