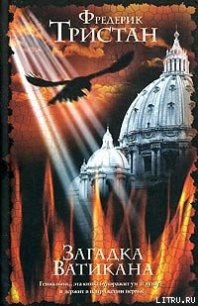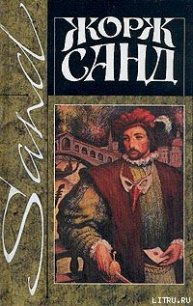«Шпионы Ватикана…» (О трагическом пути священников-миссионеров: воспоминания Пьетро Леони, <br - Осипова И. А.
Но к этому можно притерпеться — убивает другое: распорядок дня и обращение с заключенными, мучительное присутствие надзирателей. С утра до вечера лязгают ключи о тяжелые железные двери, открывается дверной глазок, раздаются крики охраны — все это изводит и выматывает душу. В пять утра побудка. Громкий лязг ключей и предупреждение: «Приготовиться к оправке». Через несколько минут дверь открывается: двое хватают парашу, и мы строем, раз-два, молча отправляемся в уборную и к умывальникам. В первые месяцы не было ни мыла, ни бумаги, большое везение, если давали чем продезинфицировать парашу.
И вот мы снова в камере. Кто-то молится, кто-то болтает, кто-то мечтает о скорой раздаче хлеба и сахара — об этом думается невольно, ибо это самый волнующий момент дня. Кто-то соображает, какую камеру успели облагодетельствовать раздатчики… Наконец они у нашей двери: 450 грамм хлеба и 9 грамм сахара на человека. Хлеб уже нарезан на порции, сахар надо делить — и это благо, потому что какое-никакое развлечение. Один из заключенных с аптекарской точностью делит сахар на порции по количеству людей в камере, после чего порции распределяются, чаще всего — по жребию. Самый молодой заключенный становится лицом к стене, другой указывает порцию наугад и спрашивает: «Эта кому?» В ответ звучит имя, названный берет свою долю; и так до предпоследнего, а иногда, для смеха, и до последнего из оставшихся.
После раздачи еды приносят так называемый «чай», то есть практически пустой кипяток — единственное, чего дают вволю. Надо только правильно распорядиться сахаром, потому что днем опять принесут чай, а его хорошо пить, только если оставить к нему кусочек сахара. Все это надежный способ борьбы с чревоугодием: многим не удавалось распределить сахар на весь день, но это было ничто по сравнению с делением пайки хлеба. Кто съедал ее утром (а некоторые съедали всю пайку разом), тот вынужден был маяться остаток дня, потому что на обед давали только миску супа «волга-волга» (несколько листков капусты и чуточку разваренной крупы: овсяной или перловой) с 10–12 граммами постного мяса, которое исчезло уже к середине июня. Вечером — 150–200 грамм каши, пшенной или перловой, по водянистости похожей на суп.
Самые умелые в борьбе с чревоугодием делили хлеб так, чтобы хватало на обед и ужин. Конечно, пайка была мала, к тому же хлеб, всегда только ржаной, черный, был такой сырой, что, казалось, он и не побывал в печи! Среди изобретений «гениального» Попова числится и такое: буханку выпекают из малого количества муки, доводя ее до нужного веса, для чего замешивают жидкое тесто, заливают его в формы и ставят в печь, где выдерживают до тех пор, пока не образуется твердая корочка, она-то и держит буханку. Неудивительно, что потом буханку режут проволокой и что каждый мечтает о горбушке. Если бы из того же количества муки испечь нормальную буханку, пайка уменьшилась бы вполовину. Понятно, почему некоторые, только съев завтрак, уже мечтали об обеде, съев обед — об ужине, а потом снова с утра вздыхали, когда же им принесут четыреста пятьдесят грамм хлеба; ожидание длилось для них вечность.
В это время остальные тихо разговаривали, молились, читали, боролись со сном или с клопами. Сидеть разрешалось, лежать нет. Развлечением было подмести или вымыть пол. Раз в неделю полагалась баня, там заодно удавалось постирать носовой платок или мелочь из белья; в баню отправляли в любой час дня или ночи. Между 13.00 и 14.00 — обед, с 15.00 до 16.00 — сон, около 17.00 — чай и вскоре после этого — ужин. На прогулку выводили иногда утром, но чаще вечером. Положено было полчаса прогулки, если не больше, но наша длилась пятнадцать, от силы двадцать минут. В 22.00 или 23.30 — отбой.
Тюремными правилами запрещалось спать, держа руки под одеялом, это было самым трудно переносимым. Несколько лет назад мне сказали, что этот запрет упразднили, но в мое время он доводил до изнеможения. Спать было и так трудно из-за неудобной позы, а тут еще мерзли руки и плечи. Но хуже было то, что, заметив непорядок, случавшийся нередко, потому что во сне человек невольно натягивает на себя одеяло, надзиратели тут же начинали колотить в дверь или открывали дверь и, ругаясь, заставляли выпростать руки. Запрет этот объясняли «гуманной» причиной: не допустить, чтобы заключенный вскрыл себе вены. По той же причине у нас отобрали пряжки и металлические пуговицы: если их заточить, ими вполне можно взрезать вены. Из тех же «филантропических» соображений в следственных тюрьмах заключенному запрещают иметь не только ремни и веревочки, но даже простыни и полотенца. Тюремщики хорошо знают, что заключенный доведен до такого отчаяния, что, имея возможность, тут же сделает себе петлю, если, конечно, его не удерживают нравственные принципы.
По улицам Москвы
12 июля наша камера праздновала мои именины по старому стилю. Наступил вечер. Вдруг открылась, как всегда с грохотом, дверь, тюремщик шепотом спросил мою фамилию и приказал: «На выход с вещами!» Дверь закрылась. Я успел проститься с сокамерниками.
Меня привели в комнатку, где полностью раздели и обыскали, а потом отвели в бокс, где были только столик и табуретка. Там я провел бессонную ночь. Рано утром меня вывели во двор и посадили в «воронок». Оказался я в нем, как гусеница в коконе; рядом за перегородками так же страдали от тесноты другие люди. Кто они? Может быть, неведомый друг из Австралии; я этого не знаю и не имею права спросить. Но мой долг — молиться за всех, жертв и палачей, и я молюсь: молюсь, как Иона в чреве кита; молюсь за новую Ниневию; за обращение России и за мир во всем мире.
Мотор работает. Мы долго кружим по городу, потом оказываемся на окраине. Где мы? Там, где угодно Богу. И ведомы мы Богом, даже когда люди, враги, забрасывают нас невесть куда.
В Лефортово
«Черный ворон» только притормозил, а водитель уже нажал на гудок, долго и нетерпеливо сигналя. Наконец открылись тюремные ворота и с лязгом закрылись за нами. И вот меня вывели из закута, и оказался я во дворе старого мрачного строения.
Началась процедура приема новых заключенных. Необходимая формальность — новый обыск. А вдруг у меня оружие или письма!.. Осмотрели меня буквально всюду. Но нужно привыкать, ведь это — царство недоверия, предательства и контроля. После медицинского осмотра меня отвели на последний этаж, как помнится, в двадцать восьмую камеру. Но где мы? Неизвестно.
Я успел заметить, что нахожусь в странной постройке: коридоров нет, похожа на сарай, стоя внизу, видишь крышу. Вокруг на перилах металлическая сетка, она отделяет проход по галереям вдоль внутренних стен, где двери в камеры: два ряда галерей в два этажа. Сетка закрывает также проемы лестниц; лестницы — боковые, ведут к мостикам переходов. Мне объяснили, что металлические сетки — это та же советская «забота» о человеке: большевики прибегли к этому средству после того, как участились случаи, когда заключенные, недооценив «заботу» о них, бросались в пролет вниз головой. Сетки — такое же советское изобретение времен Ежова, как и «намордники» на окнах, которые портят не только жизнь заключенным, но и архитектурный облик здания.
Только через несколько дней, когда принесли квитанцию на отобранные у меня немногие вещи, я узнал, что помещен в Лефортовскую тюрьму. «Это военная тюрьма, тут режим строже. Сюда отправляют в наказание» — так говорил мне один из моих товарищей по несчастью.
Преимущества и недостатки
На самом деле условия в Лефортово были не хуже, чем на Лубянке, в некотором отношении здесь было даже лучше. Что до душевного спокойствия, здесь его оказалось больше. Правда, мучил рев самолетов, которые испытывали где-то рядом, на авиазаводе недалеко от тюрьмы, зато над нами меньше издевались тюремщики.
Еду давали более грубую, но порциями побольше. Спать было лучше: конечно, по ночам часто поднимали в баню, но не требовали держать руки поверх одеяла, не гремели и не лязгали ключами, меньше слышались ругань и угрозы «вертухаев». В Лефортовской не полагалось дневного сна, и вместо коек были нары, зато на них можно было лежать, загнув верх матраса под голову; можно было даже исхитриться и немного вздремнуть, прикрыв лицо открытой книгой из тех, что нам давали читать.