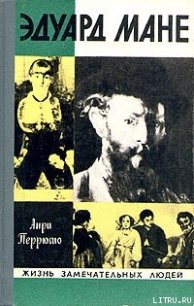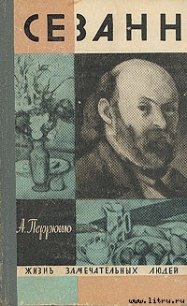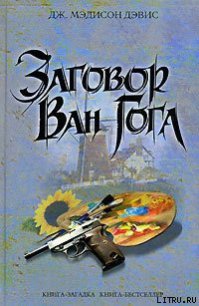Жизнь Ван Гога - Перрюшо Анри (читаем книги онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
Ненадолго съездив за вещами в Гаагу, Винсент в последний раз увиделся с Син, и эта встреча никак не могла укрепить в нем бодрость духа. Нездоровье Син, мертвенная бледность малыша — все это несказанно огорчило его. Но он уже принял решение — будь что будет!
17 января с его матерью приключился несчастный случай, и поначалу это происшествие как будто примирило Винсента с родными: горе всегда сближало его с людьми. Сходя с поезда в Хелмонде, куда она ездила за покупками, мать упала, сломав правое бедро. Врач не стал обнадеживать ее родных: боюсь, сказал он, что госпожа Ван Гог не сможет ходить раньше чем через полгода и, по всей вероятности, останется хромой. И тут бывший проповедник из Боринажа явил пример самоотверженности, вызвавшей в Нюэнене всеобщее восхищение. С редкой преданностью ухаживал он за матерью, дневал и ночевал у ее постели. Многочисленные гости, приходившие навестить больную, неумолчно расточали ему хвалу. Но не тут-то было! Хотя он всячески старался поддерживать с гостями добрые отношения, Винсент, раздираемый внутренними терзаниями, все же не раз проявлял нервозность. Стоило его матери чуть оправиться от болезни, как тут же возобновились прежние раздоры, на мгновение забытые той и другой стороной. И Винсент снова остался один.
Он вновь с мрачным ожесточением взялся за кисть. Писал он главным образом ткачей, в той темной гамме, лишь изредка перемежавшейся проблесками света, которая отвечала его душевному настрою. К тому времени он уже постиг многие тайны мастерства и убежденно провозглашал свое кредо. «Пусть Ваше искусство освещает путь людям, в этом, как я полагаю, состоит долг каждого художника», — писал он Ван Раппарду. До последнего времени Винсент стремился постичь секреты техники, теперь же он поставил перед собой более сложную задачу: «Наше творчество должно быть настолько изощренным, чтобы казаться наивным, — от него не должно разить талантом». К тому же он признавал только индивидуальную технику. Техника — не риторика, она должна выражать личность художника. Винсент вспоминал слова Херкомера, которые тот произнес, открывая свою школу живописи: «Мне важно выпестовать индивидуальные таланты, а не воспитать последователей доктрины Херкомера». Отсюда вывод: «Львы — не обезьяны, они не подражают друг другу».
Этот человек, рассуждавший как мастер своего дела, находился между тем в самом отчаянном положении. Трудно вообразить более трагический контраст! Винсента презирали и третировали, как никогда раньше. Жители поселка смеялись при одном появлении «пачкуна», этого неудачника, который без зазрения совести жил на средства своих родных. А в самом пасторском доме отец, подобно всем священникам признававший одну лишь букву веры, укорял сына в безбожии, и отношения между ними обострились до крайности. То и дело вспыхивали ссоры.
Винсента захлестнуло безграничное отчаяние. Постоянные упреки, что он не зарабатывает денег, раздражали его, по его выражению, как докучливая шарманка. Он вконец озлобился. «Что до меня, — объявил он Ван Раппарду, — я намерен поступать теперь вот как: если здешние люди станут мне что-либо говорить, я буду заканчивать за них фразу, не дожидаясь, когда они сами договорят. И впредь я буду поступать так же, как поступаю теперь, сталкиваясь с человеком, который имеет обыкновение вместо руки протягивать мне один палец. Вчера я именно так подшутил над почтенным собратом моего отца. Я сам в этих случаях протягиваю один палец и слегка дотрагиваюсь им до его пальца — это вместо рукопожатия. Моему собеседнику не в чем меня упрекнуть, но он должен почувствовать, что мне на него наплевать так же, как ему на меня».
Винсент был вне себя от раздражения, тем более что недостаток средств, за который его корили, сплошь и рядом вынуждал его прерывать работу. «Показывайте всем мои рисунки, — просил он Ван Раппарда. — Мой долг — искать случая и использовать всякую возможность для продажи моих работ… Однако, — тут же добавлял он, — не утруждайте себя сверх меры: ничего не форсируйте. Повторяю, я вынужден просить Вас об этом. Не будь этого, я, вне всякого сомнения, предпочел бы сохранить свои этюды и не согласился бы их продавать. Но … Что поделаешь!» В своем исступлении Винсент накинулся даже на брата. «Ты ни разу еще не продал ни одной моей вещи, — как-то раз написал он ему, совсем потеряв голову от обиды и гнева. — В сущности, ты даже не пытался этого сделать». Братская привязанность Тео? Это «вялая, равнодушная дружба». Впрочем, разве речь идет о продаже картин, о деньгах, о каких-то обидах? Мы слышим стон, вырвавшийся из самых глубин души Винсента, безрассудный трагический укор: «Да, деньги ты можешь мне дать, но ты не дашь мне жену, ребенка, работу».
В марте он сделал пером и карандашом зарисовки сада при пасторском доме. Этот сад, «наполовину старинного, наполовину деревенского обличья», на рисунке превратился в пустынную обитель с деревьями, истерзанными ветром, пронизанную чувством мучительного одиночества. Какая-то черная тень мелькает в этом саду — воплощение безрадостности и горя. «Меланхолия» — так назвал Винсент этот рисунок.
Вконец измучившись, Винсент оставил чулан и разместил мастерскую в двух комнатах, которые снял у пономаря католической церкви. Впрочем, это была не мастерская, а, скорее, своего рода сарай, где вокруг печурки, изрыгающей золу, среди стульев с продырявленным сиденьем вскоре выросла беспорядочная груда рисунков, акварелей и холстов, а также куча самых разнообразных, но чрезвычайно интересовавших художника предметов — прялки, грелки, старинные костюмы крестьян и ткачей, деревянные башмаки, женские чепцы, сельскохозяйственные орудия, чучела птиц, высушенные цветы и растения, птичьи гнезда … К последним Винсент питал истинную страсть. Разве они не наглядное олицетворение, глубоко поэтический символ семейного очага? Винсент упорно отыскивал гнезда дроздов и корольков, зяблика и иволги и изучал их, как самый настоящий орнитолог, наверно, даже еще основательней, потому что всем сердцем жаждал постичь сокровенную тайну жизни птиц.
В мае, на радость Винсенту, к нему приехал Ван Раппард. Он одобрительно отнесся к работам друга — картинам и рисункам, — и это ненадолго согрело душу Винсента. Наверно, Ван Раппард немало удивился, найдя Винсента еще более мрачным, чем когда бы то ни было раньше. Страстность, с которой он всю зиму работал над несчетными портретами ткачей, теперь уже завершенными, произвела на степенного, неторопливого Ван Раппарда, оставшегося, по существу, прежним студентом Академии искусств, такое же сильное впечатление, что и прежде. С восхищением и страхом смотрел художник на Винсента, человека, беззаветно преданного искусству, который питался одним лишь хлебом и сыром («Это не портится в дороге», — шутил Винсент) и, вечно голодный, готовился и впредь жить в нищете. Правда, время от времени Винсент отпивал глоток коньяка из фляги, которую всегда брал с собой в свои походы и, не переставая, курил. Табак, как он утверждал, действовал на него успокаивающе.
Начало лета застало Винсента в процессе стремительного творческого роста. Хоть он и начал писать по-настоящему всего лишь два года назад, пора его первых опытов ныне казалась ему безвозвратно ушедшей в прошлое. Теперь его волновали важные технические проблемы. В начале своей работы он пользовался локальным цветом, иными словами, пытался достоверно передать на холсте предметы в присущем им цвете. Теперь же он понял, что эта достоверность — фикция, так как в каждой картине цвета воздействуют друг на друга, и потому в работе надо учитывать игру красок. Картина — самостоятельное целое, в ней не просто соседствуют цвета с не зависящим друг от друга эффектом; это симбиоз цветовых сочетаний. «Серовато-красный цвет, в котором сравнительно мало красного, будет казаться более или менее красным в зависимости от соседствующих с ним цветов. То же относится к синему и желтому. Достаточно добавить к тому или иному цвету каплю желтого, чтобы он начал казаться ярко-желтым, очутившись посреди лилового или сиреневого или же рядом с ними». Винсент внимательно изучил два произведения Шарля Блана: «Художники моего времени» и «Грамматика рисовального искусства». В первой книге его особенно поразила следующая, весьма характерная история. Как-то раз Шарль Блан сказал Делакруа, что «великие колористы — это те, кто не передает локального цвета», и Делакруа поспешил развить его мысль. «Совершенно верно, — подтвердил он. — Возьмите, к примеру, этот тон (он показал пальцем на серую, грязную мостовую); так вот, если бы Паоло Веронезе сказали: „Напишите белокурую красавицу с телом такого тона“, он написал бы ее, и на его картине женщина и впрямь была бы белокурой красавицей».