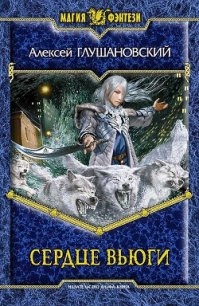Сколько стоит человек. Повесть о пережитом в 12 тетрадях и 6 томах. - Керсновская Евфросиния Антоновна
Никогда не забуду я этого вечера!
Я сидела на теплом, еще не успевшем остыть от дневного зноя камне, погрузив босые ноги в теплую, мягкую пыль. Было душно. Надвигалась гроза. На востоке, далеко-далеко, полыхали зарницы, но грома не было слышно. Небо было затянуто тучами. Время от времени на землю с громким шорохом падало несколько крупных редких капель и в воздухе появлялся тот странный запах, который напоминал мне Одессу, детство, дворника Тимофея, поливавшего из шланга асфальт во дворе дома № 40 по Маразлиевской улице, нашего дома.
На небе не было привычных ласковых звезд, зато целые созвездия сверкали на земле: желтые, голубые и красные — какие-то зубастые, напоминающие те «зубы людоеда», которыми мы в детстве пугали друг друга, когда в темноте брали в рот догоравшую спичку.
Вот эта самая большая звезда — на площади; эта — возле парка на Дубовой улице, возле бывшей управы. Возле них установлены громкоговорители, по три вместе, которые не умолкают ни днем, ни ночью. Днем они не так слышны, но теперь… Может быть, оттого, что они рядом со звездой, но кажется, что именно красные звезды, а не громкоговорители говорят, поют, играют. Чем темней, тем ярче; чем позднее, тем громче.
Каждая вспышка зарницы заставляет радио хрипеть, и казалось, что хрип вылетает из горла великана-людоеда со светящимися зубами и музыка от испуга прерывается.
К горлу моему подкатился комок, в носу защипало, и не капли дождя — крупные и прохладные — упали в пыль, а жгучие слезы: по радио передавали одну за другой столь знакомые пьесы и в той же последовательности, как я их уже не раз слышала и прежде!
И вспомнился мне тот вечер, когда я в первый раз слушала эту музыку, передававшуюся в той же последовательности из Москвы: «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» Грига, «Лебедь» Сен-Санса, отрывки из балетов Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро». И в заключение — «Итальянское каприччио».
Исчезли «зубы людоеда» и серебристая лента Днестра, охватывающая дугой мыс, на котором расположена Цекиновка, исчезли светлячки города; не было больше ни черного неба, ни полыхающих вдали зарниц…
Перед глазами — иная картина.
Освещенная керосиновой лампой уютная комната; в кресле возле круглого столика, покрытого бархатной скатертью, сидит папа — смуглый стройный старик с тонкими, благородными чертами лица. Крупные кольца серебряных кудрей, на коленях сложенная газета, у ног — легавая Диана, а на спинке кресла зеленая от старости, с ярко-янтарными глазами любимая папина кошка. По другую сторону стола — Ира. Забыта книжка, и Ира с блестящими глазами и чуть вздрагивающими ноздрями вся обратилась в слух. Тень от ее головы падает на стену, где на бараньих рогах (для торжественности мы их называем турьими) мой арсенал: берданка и винчестер висят крест-накрест, и чуть пониже, над патронташем, шашка и кинжал. А за письменным столом, вся дрожа от восторга, священнодействует мама…
Теперь мы избалованы: всюду репродукторы, радиоприемники, телевизоры. Но тогда, в начале тридцатых годов, среди наших лесов слушать Москву — это было чудо и вызывало восторг! А мама — она просто наслаждалась! Восторгу ее не было предела! Она так любила музыку, так ее знала, понимала, ценила!
Я музыку тоже любила. Но не это было главное. И не музыка сама по себе перехватила мне горло, и не она выжала из глаз моих слезы. Просто на меня пахну?ло тем уютом, который царил в той комнате, той любовью, спокойствием и взаимным уважением, которые так тесно связывали всю нашу семью, и мне до боли захотелось человеческой жизни, доверия, любви — всего того, что было! Мне показалось, что это не я сижу на камне у синагоги, что я там, на ковре, у папиных ног, что рядом со мной Ира, любимая сестра, что я любуюсь полной воодушевления мамой и что я имею право на счастье!
О! Горе и одиночество пройдут, и я дождусь счастья! Я хочу жить! Хочу прижать к своему сердцу мою добрую, любимую, доверчивую и всегда восторженную маму! А для этого надо бороться: победа сама собой, без борьбы не приходит!
Музыка окончилась. Близилась полночь. По радио передавали последние известия. Но в ушах раздавался бравурный звон фанфар и где-то вдали слышался голос Сольвейг, а в душе моей чей-то голос повторял: «Борись! Терпи, не робей! Вперед, всегда вперед, только вперед! Правда всегда победит!»
Не знала я, что наступит критический момент, когда отчаяние захлестнет меня черной волной и смерть покажется мне желанным избавлением и что вот тогда знакомые звуки этой же музыки, вылетавшие из репродуктора в кабинете следователя Титова, мгновенно воскресят в памяти эту душную ночь, последнюю ночь на родной земле, сметут с души моей малодушие и напомнят: «Ты имеешь право на жизнь! Борись! Правда победит!»
Судьба…
Что значит это таинственное слово? Что было бы, если бы в эту ночь не пошел дождь? Не знаю… Лучше? Хуже? Но все должно было произойти именно так.
Ночью прошла гроза с сильным дождем, опрыскивать виноградник было нельзя. Почему я не повернулась на другой бок, не натянула тулуп на голову и не продолжала спать? Ведь я добралась до шалаша далеко за полночь и так редко имела возможность поспать всласть! Почему пошла босиком по грязи в город?
Судьба! Все та же судьба…
И час пробил
Я быстро шагала через Божаровку, предместье Сорок, и слышала плач и причитания. Может быть, думала я, в одном из этих домов кто-то умер и по древнему обычаю на восходе солнца женщины должны причитать по покойнику традиционное:
А может быть, когда что суждено, то человек и глух и слеп к предупреждениям? Как это говорится в стихотворении «Канут» А.К. Толстого:
Так это или нет, но я дошла до Титаревых. Они только что проснулись и собирались пить чай на крылечке, выходящем в сад. До чего же было мирно и радостно кругом. После ночной грозы солнце светит особенно ярко, птички щебечут особенно радостно и дышится как-то очень уж легко!
Не успели мы сесть за стол, как на крыльцо откуда ни возьмись взбежала соседка — полуодетая, непричесанная, с вытаращеннами глазами — и быстро-быстро зашептала:
— Вы слыхали? Петю Маленду среди ночи забрали! Не разрешили ничего с собой взять. Он, жена, дети — все оделись второпях во что попало. Матери не разрешили с ним попрощаться. Старушка хотела ему 100 рублей передать — не позволили! Старушка плачет! Все плачут! И многих, многих вот так среди ночи ни за что ни про что похватали, на подводы посажали и неизвестно куда везут!
Точно пелена спала с моих глаз. Так вот зачем в город согнали столько подвод! Так вот почему накануне изъяли радиоприемники! Теперь понятно, почему тот весельчак из Застынки вчера удавился!
— Ну значит, и мой черед пришел! — спокойно, почти весело сказала я. И не успела окончить фразы, как увидела Алису, дочь Эммы Яковлевны. Она почти бежала по узкой улочке, что шла в обход главной улицы. Запыхавшись и размахивая руками, она еще издали кричала:
— Фросинька! За вами еще ночью приходили. Двое с ружьями. А утром пришли шестеро. Вооруженные. Кричали. Так сердились! Мы, говорим, не знаем… А они — свое. Ужас что происходит! Всех похватали! Домнику Андреевну, Витковских… Леонтина беременна, вот-вот ей родить! Жозефина Львовна больна — и все равно забрали… И Иванченко, и Гужа… Боже мой! Дети, старики… В чем попало — раздетых, больных… Ой, да что же это? Злодеев так не хватают, а ведь это мирные, работящие, ни в чем не повинные люди! Ах, Фросинька! Бегите, спрячьтесь! Куда-нибудь бегите… Может быть, спасетесь.