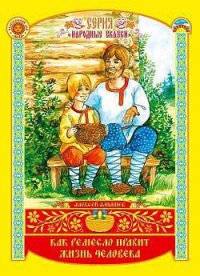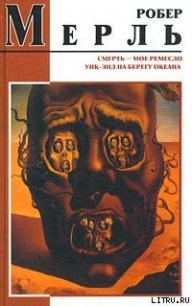Судьба и ремесло - Баталов Алексей (читать книгу онлайн бесплатно без TXT) 📗
Неискушенному человеку может показаться, что достаточно просто взять две хорошо сыгранные сцены, поставить их подряд — и они прозвучат. Но даже в прекрасно сыгранной сцене много того, что не должно звучать. Нужно, чтобы кто-то эту сцену внимательными руками, как говорят на радио, почистил, убрал всё лишнее. А ведь это убирание, по существу, меняет ритм сцены, меняет ход диалога, меняет паузы и наносит при неаккуратном обращении очень тяжелый вред. Движение это нельзя не учитывать, не говоря уже о том, что сцену можно погубить даже хорошей музыкой. Можно потерять обаяние актрисы, желая ей помочь акустикой натуральной комнаты. Наконец, добросовестное сложение по порядку вполне удавшихся сцен тоже само по себе еще не гарантирует возникновение целостной, органически развивающейся передачи. Соединившись в единую цепь, эпизоды могут нарушить естественное движение развивающегося, теперь уже по художественным законам, образа. Лишенные зрительного напоминания и никак не выраженные в звуке, они могут исчезнуть из памяти слушателя, разорвав цельное впечатление на ряд более или менее удавшихся фрагментов. А ведь из слов, из коротких реплик в хорошей передаче слушатель узнает не только то, что сказал герой, но и каков он и какой мир его окружает.
Как ни странно, но одно почти невозможно скрыть — это отсутствие единого замысла. Очень трудно его приобрести потом.
И вот когда сталкиваешься с классическими передачами, то даже при всем несовершенстве записи, при определенной наивности приемов захватывает и чарует прежде всего даже не то, что встречаешься с актером, которого давно не слышал, а цельность этого произведения, стало быть, цельность замысла, намерений, с которыми вся эта передача делалась с самого начала.
В конце концов, когда приходится слышать по-настоящему удавшуюся радиопостановку, происходит какой-то странный, но, в общем, свойственный всякому человеку внутренний процесс наполнения. Невидимые, обозначенные только звучанием картины и образы постепенно обретают определенные зрительные ассоциации, и, наверное, для каждого слушателя свои, потому что, слушая исполненную незнакомой актрисой роль, каждый человек, наверное, представляет себе ту героиню, которая сложилась из только ему знакомых дорогих, может быть, когда-то виденных в жизни черт. Нечто подобное происходит с нами тогда, когда смотришь хороший немой фильм и невольно ощущаешь и звучание мелькающих на экране кадров — гул разъяренной толпы, топот копыт или крик бегущего человека.
Следуя этому закону неразделимости человеческой фантазии, спрятанные за ширмой звука «радийные» знаки начинают двигаться, преодолевая пространство, которое в свою очередь так же кажется то ночным полем, то огромным светлым залом, то океанским простором. Подобно тому как музыка способна таинственным и необъяснимым путем пробуждать в людях вполне конкретные чувства и образы, далеко превосходящие знакомые картины реального мира, ожившие на радио сцены в идеальном своем исполнении, наверное, способны раскрыть перед слушателем двери в неведомые времена, в таинственный круг духовной жизни человека.
Урок Прокофьева
Многие сомневаются в том, что на свете существует какая бы то ни было радиодраматургия, вернее, вообще какой-то особый вид постановки для радио, не без оснований полагая, что всякое исполнение, будучи передано через эфир, уже приобретает черты, характерные для любого вида вещания. Ну в крайнем случае прочитали пьесу или рассказ по голосам, сдобрили это шумами, музыкой или каким-то комментарием — и всё. Если снова, уже с пленки, переложить все это на слова и отдать машинистке, то вот на бумаге и возникает радиодраматургическое произведение. Честно говоря, в свое время, будучи только радиослушателем, я и сам думал примерно так же. И в самом деле, если всё чуть-чуть опростить, то так оно и получится. Но это «чуть-чуть» порой и определяет в нашем деле главное.
Вспомните простой сценический пример. Актер — это всякий, «то, взяв текст роли, произне-сет его вслух со сцены. Вполне справедливое наблюдение, и порой именно так и бывает в жизни. Но если хоть немного углубиться в суть дела и в какой-то мере признать за актером авторство, если заметить, что его собственные силы и умение способны значительно влиять на конечный результат и при пользовании теми же словами он может придать образу небывалую силу проникновения в зрительские сердца, то просто по аналогии придется согласиться, что радио может быть не только передатчиком брошенных в эфир звуков, слов, мелодий, но и творцом, создателем чего-то такого, что обладает большим воздействием, чем просто по порядку сказанные слова или воспроизведенная с пластинки музыка.
Радиодраматургия — форма, которая очень трудно записывается на бумаге. Скучно и длинно приходится описывать словами то, что составляет звуковую композицию, а между тем радиодраматургия проявляется именно в звуковых сочетаниях, где длина паузы или тональность шума порой так же важны и выразительны, как слова актера. И сколь трудно ни было бы редак-торам, теоретиким или авторам угадать заранее, точно выразить на бумаге все необходимые для постановки сочетания звуков, именно композиция всего, что способно звучать, включая сюда и философские монологи, и звон разбитой поллитровки, и симфоническую музыку, таит в себе особый, неповторимый мир радиообразов, без которых невозможно никакое художественное вещание.
Однажды мне пришлось работать над очень необычным материалом. В детской редакции был сценарий по книге Сергея Сергеевича Прокофьева «Автобиография», и требовалось записать передачу о детстве, о первых музыкальных впечатлениях этого замечательного композитора. Деревенская жизнь, усадьба, где отец был управляющим, уроки музыки, первое посещение оперы, первые сочинения… Задание предельно ясно, круг музыки, относящийся к этим годам, определен самим героем постановки. Казалось, запиши не мудрствуя лукаво слова, подложи упомянутые опусы Сережи, и все само сложится в давно известную классическую форму.
Но как только началась работа, как только текст разошелся по живым голосам, а скрытые в нем подробности определили места и время действия, все стало разваливаться или, во всяком случае, сопротивляться обычным прекрасно работавшим во многих подобных постановках приемам.
Теперь я понимаю, что виной тому было то давно сложившееся где-то в подсознании у каж-дого из нас представление о Прокофьеве, которое совершенно неотделимо от его знаменитых сочинений, от звучания его музыки. Но первое, с чем мы столкнулись при внимательном рассмо-трении, была сама манера прокофьевского повествования — в нашем сценарии это текст «от автора».
Книга написана несвойственным для воспоминаний, тем более для передачи о детстве, суховатым, «взрослым» языком. Обычно воспоминания бывают сладковатыми, и ребенок и его окружение получаются очень симпатичными и милыми. Может быть, это свойство человеческой памяти — хранить всё хорошее и стараться отыскать в прошлом что-то получше, — а может, неопытность большинства мемуаристов, но мы давно привыкли к такой тональности рассказа. Книга же Прокофьева о его детстве написана каким-то жестким, очень, я бы сказал, докумен-тальным языком. Уж, во всяком случае, безжалостно по отношению к себе, к окружающим, к фактам.
Это неизбежно убивает розовое обаяние детского бытия, но зато придает книге удивитель-ную подлинность и дополнительную, почти зримую достоверность.
Когда такой материал предлагается для детской передачи, неминуемо возникает необходи-мость каким-то образом постоянно сохранять у слушателя ощущение, что все события, о которых идет речь, раскрываются не с позиции взрослого стороннего наблюдателя, а с точки зрения участника всего происходящего, теперь уже трезво и безжалостно относящегося к тем временам.
Только самому Прокофьеву позволено так говорить о старших, о прислуге в этом доме, наконец, о самих сочинениях мальчика Сережи Прокофьева… Отсюда само собой возникало желание не просто добросовестно читать пояснительный авторский текст и ремарки, а попыта-ться передать интонации именно прокофьевского рассказа, его отношение к самому себе.