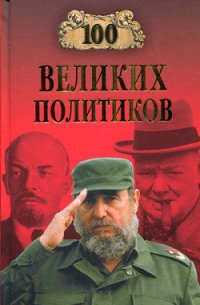Воспоминания - Брандт Вилли (читать полностью бесплатно хорошие книги .txt) 📗
Способность людей притворяться слепыми почти безгранична, и это относится не только к немцам, оставшимся в стране. В этом состоит один из важнейших уроков нацизма и — в ином виде — сталинизма. Мы в Стокгольме тоже знали далеко не все, но кое-что все же знали. Мы высказали свое мнение по поводу восстания в варшавском гетто, как и Варшавского восстания вообще, когда советские солдаты остановились на другом берегу Вислы. В конце 1942 года или в начале 1943 года польский социалист и посланник эмигрантского правительства Карниол передал мне короткий доклад об умерщвлении людей в душегубках. Он сам получил его от подпольщиков. Я подготовил информацию для одного нью-йоркского агентства новостей и ознакомил с ней узкий круг своих единомышленников, в котором мы совершенно откровенно обсуждали все проблемы. Но на этот раз обсуждения не получилось. Фритц Тарнов, видный профсоюзный деятель, который когда-то руководил деревообделочниками, а «под занавес» — это был глас вопиющего в пустыне — еще требовал создания программ по трудоустройству, решительно отказался верить в подлинность доклада: «Немцы на это неспособны». Он высказал предположение, которое слишком охотно подхватили другие, что мы-де имеем дело с возрождением измышлений о зверствах немцев, которые распространялись во время первой мировой войны. Книга нашего общего друга Штефана Сенде «Последний еврей из Польши», написанная и изданная незадолго до окончания войны, содержала, как явствует из названия, все существенное. Но отклика она не нашла.
Что являлось виной? Что — ответственностью? Когда осознание запланированного преступления перерастает в сопричастность? Нюрнбергский процесс над военными преступниками помог уяснить многие понятия. Виновными я называл нацистов, точнее, твердое ядро их партии — примерно миллион человек. Степень вины следовало установить индивидуально. Противников нацизма я считал невиновными, так же как и массу более или менее безразличных. Но не могло быть сомнений в том, что все они несут ответственность и должны нести ее и в будущем: «Те, кто не чувствуют себя виновными и не виновны в нацистских преступлениях, если они хотят продолжать работать среди этого народа и сделать его лучше, несмотря на свою невиновность, не могут избежать последствий той политики, которую охотно поддерживала слишком большая часть этого народа». Особенно снисходительно я оценивал тех, кто вырос в рядах гитлеровской молодежи. Худшие нацисты это не те, «кто, так сказать, врос в нацизм, а те, кто уже были нацистами, когда Гитлер пришел к власти». Обобщая, я писал: «Было бы ужасно, но вместе с тем и проще, если бы немцы как таковые являлись преступниками». Особые обстоятельства сделали их орудием и жертвой нацизма. Так размышлял я в течение долгих месяцев Нюрнбергского процесса. Свои размышления я опубликовал в 1946 году в Осло. Заглавие «Преступники и другие немцы» вызвало страшное смятение. Это было название книги, которая защищала большинство немцев от меньшинства преступников.
Из Бремена я отправился через Франкфурт в Нюрнберг и, как и все аккредитованные корреспонденты, занял солдатскую койку во дворце династии карандашных королей Фабер-Кастелл. Процесс, который, несмотря на все его слабости, я считал полезным, начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Я неустанно писал, но несколько раз был готов последовать примеру того американского коллеги, который дал в свою газету следующую телеграмму: «Я больше не могу — нет слов». Выступления обвиняемых вызывали еще больший ужас. Только Альберт Шпеер признал свою ответственность. В своем последнем слове он немного объяснил действие механизма, превращающего технократа в орудие дьявола.
Ужасы, которые открылись в Нюрнберге, приводили даже самые сильные натуры на грань душевных потрясений — и более того. Но как иначе можно было заглянуть в будущее? Противоречия между западными державами и Советским Союзом бросали мрачную тень на ход процесса и приковывали к себе внимание наблюдателей. Что будет с немцами, если распадется антигитлеровская коалиция? В ту зиму я неоднократно убеждался в том, что они хотят работать, работать, чтобы выжить. Дадут ли им этот шанс? Или все-таки нужно рассчитывать на третью войну, о чем я в своего рода заклинании духов написал в Стокгольме? Наши «кровные интересы» требуют, писал я из Нюрнберга друзьям на Севере, чтобы мы воспрепятствовали такому развитию. К этому я добавил: односторонняя ориентация на Запад несовместима с восстановлением немецкого единства. Единое государство возникнет лишь после достижения взаимопонимания со всеми державами-победительницами. Была ли это тоже формула заклинания? Кто еще верил в единство союзников? Авторитет Советского Союза быстро упал. Среди населения нарастал получавший все новую пищу страх перед «русскими». Насильственное приобщение к коммунистической идеологии в их зоне оккупации не осталось скрытым от тех, у кого были глаза и уши. А затем борьба берлинских социал-демократов за свободу, за которой я наблюдал весной 1946 года и с возмущением, и с увлечением. Эта борьба оказалась весьма убедительным уроком послевоенной действительности.
А что предпримут Соединенные Штаты? Еще в 1944 году в своей книге «После победы» я заявил, что в Америке яснее всего определили, во имя чего ведется борьба против нацистской Германии. «Недопустимо, чтобы Америка ушла из Европы», — считал я. В течение долгих месяцев Нюрнберга перекрещивались многие линии, интеллектуальные и эмоциональные, преодоления прошлого и размышлений о будущем, политические и сугубо личные. Я ощущал свою тесную связь с Германией, гораздо более тесную, чем я мог об этом мечтать. Тем не менее той весной по поводу своего будущего — будет ли оно норвежским или немецким — я бы не стал заключать пари. Один норвежский друг, с которым я обменялся мнениями, предсказал, что я перееду в Берлин. Он меня слишком хорошо знал и мог себе представить, что без политики я не проживу. Заниматься политикой в Норвегии для меня, человека, родившегося не в этой стране, по идее, означало бы, что мне сперва надо было бы пожить несколько лет в деревне и побыть в шкуре крестьянина. Но и после этого я бы вряд ли достиг многого.
20 мая 1946 года я провел в Любеке собрание на тему «Мир и Германия». В Осло я сообщил, что меня очень тепло приветствовали, «а немецкие товарищи хотели бы, чтобы я туда приехал. Возможно, я так и поступлю». Летом я говорил по этому вопросу с Теодором Штельтцером, который пребывал теперь в Киле. Он хотел знать, можно ли на меня рассчитывать в Любеке. В этом случае он назначил бы исполняющего обязанности бургомистра Отто Пассарге начальником полиции земли Шлезвиг-Гольштейн. Любекские социал-демократы поехали в Ганновер, где Курт Шумахер вновь основал СДПГ и при поддержке верных помощников вывел ее железной рукой на правильный курс. Я сам побывал там в мае 1946 года на партийном съезде, однако не увидел для себя никакой перспективы и не почувствовал, что меня здесь ждут.
Было ли мое левосоциалистическое прошлое таким уж большим прегрешением? Вряд ли, так как другие члены бывших обособившихся групп уже давно пользовались уважением. Впрочем, Шумахера еще в 1945 году уполномочили заключить с тремя уклонистами — Отто Бреннером, Вилли Эйхлером и Эрвином Шеттле — соглашение, по которому членство в группах и в СРП засчитывалось в непрерывный стаж пребывания в социал-демократической партии. На самом деле никому и в голову не приходило использовать это прошлое как повод для колких замечаний. Между социал-демократами и коммунистами не было больше ничего общего и не существовало никаких иллюзий. Одни примкнули к тем, другие к этим, как, например, Якоб Вальхер, который еще в эмиграции в Америке избрал для себя Восток и вполне логично оказался в рядах СЕПГ. Он пытался уговорить и меня, но получил в первые же дни после советского насильственного объединения СДПГ и КПГ однозначный отказ. Решающим обстоятельством, писал я ему, является то, что «объединение было достигнуто недемократическими средствами, а частично даже насильственными методами». Основные демократические права и сама демократия в рабочем движении — это «не вопрос целесообразности. Это первоочередные принципиальные вопросы».