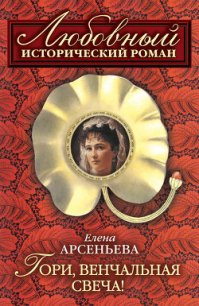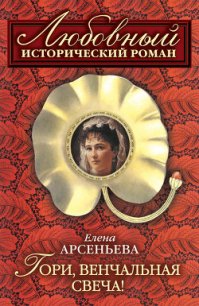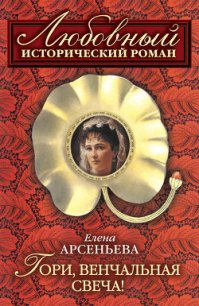Черные глаза (Василий Суриков – Елизавета Шаре) - Арсеньева Елена (бесплатные книги полный формат TXT) 📗
«Меншиков в Березове» был продан Павлу Третьякову за большие деньги, которые позволили Сурикову и его семье съездить в Италию и Францию. В 1883 году он написал «Боярыню Морозову», которую Третьяков тоже купил за сумму баснословную – пятнадцать тысяч рублей. И Василий Иванович подумал: пора поехать в Сибирь, навестить мать. А то потом как бы не пришлось каяться, что так и не свиделся с ней на этом свете!
Каяться ему пришлось-таки… за то, что поехал!
Само путешествие было невероятно длинным и тяжелым, чуть не три недели. Сначала до Нижнего железной дорогой, потом пароходом до Перми… Уже во время путешествия водою у Лизы снова начало ломить суставы и сжималось сердце. Она таилась от мужа, скрывала, что путешествие стало для нее каждодневной мукой, ну а уж когда добрались до Красноярска, вообще жить расхотелось.
Сразу было видно, как она не понравилась свекрови. С каким глубоким презрением, не сказать – отвращением смотрела Прасковья Федоровна на тонкую фигуру в пышном платье, на тщательно причесанные, уложенные волосы, на тонкие пальцы, обтянутые перчатками…
– Так и будешь в огороде полоть? – спросила презрительно.
В огороде полоть?! Елизавета чуть не умерла от ужаса, но постаралась храбро улыбнуться.
«Это ненадолго, не навсегда», – успокаивала она себя, и плакать хотелось, что мысль об отъезде – это единственное ее утешение, что не любит ее мать Василия, а она – не любит ее…
При взгляде на внучек глаза Прасковьи Федоровны потеплели только на мгновение: они были не суриковской породы, а сущие француженки! Девочки ее боялись…
А у Василия Ивановича словно бы глаза помутились, так он был счастлив оказаться на родине, увидеть старых друзей, показать себя нынешнего: вот он каким стал, а был-то… писец заштатный, невзрачненький мазила!
Лиза считала дни до отъезда. Как-то раз не выдержала – зарыдала и взмолилась:
– Васенька, уедем! Сердце болит!
Тот наконец-то догадался повнимательней взглянуть на жену – и испугался: да на ее лице одни глаза остались, такие же мучительно-прекрасные, как у княжны Марии Меншиковой!
– Прости меня! Едем! Немедленно!
Лишь только Красноярск и угрюмое лицо свекрови остались позади, Лизе мгновенно стало легче. Она даже стыдилась этого внезапного улучшения здоровья, боялась, что Василий решит, будто она притворялась, чтобы разлучить его с матерью.
Но улучшение оказалось недолгим. Домой Василий привез Лизу совершенно больной, настолько, что понадобилось уложить ее в постель. Теперь ее постоянно наблюдали врачи. Елизавета так ослабела, что ничего не могла есть, только чай с лимоном пила. Тогда-то повадился к ним ходить Лев Толстой, живший в ту пору в Москве. Сурикову льстило это внимание, льстило, что Толстой хочет посидеть около Елизаветы. Но она боялась его приходов, ей худо становилось близ Толстого, хуже некуда: он смотрел так пристально, он следил за каждым жестом, каждым выражением лица…
– Он наблюдает, как я умираю! – зарыдала, не выдержав, Лиза однажды, и Суриков испугался: да как же его взгляд, его внимательный взгляд художника не видит, сколько боли причиняют жене эти визиты?!
На другой день, едва Толстой появился на пороге, Суриков так и бросился к нему:
– Убирайся прочь, злой старик!
Лев Николаевич ушел, потрясенный…
Весна 1888 года накатывалась сырая, томительная, мглистая. Уже в марте стало ясно, что смерть Лизы – вопрос только дней, так она порою мучилась, однако Василий все еще надеялся на что-то. Просиживал у ее постели, болтал всякую ерунду, смотрел в прекрасные глаза. Почему-то в эти дни они все чаще освещались улыбкой.
«А может быть, милостив Господь? – замирал в надежде Суриков. – За что меня так карать?»
Но взгляд Лизы все чаще и чаще уплывал от его глаз, проникаясь той же нездешней, отстраненной печалью, какую он помнил по собственной же картине.
Как-то раз она смотрела вот так, в сторону, особенно долго, а губы слабо улыбались. Суриков сидел тихо-тихо, караулил каждый ее вздох. Наконец решился, шепнул:
– О чем ты думаешь? О чем ты так думаешь?!
Она молчала, только глядела в пространство странно остановившимися глазами.
– Лизонька! Очнись! Скажи что-нибудь! Где ты?
Молчание.
Ему стало страшно.
Вскочил и вдруг крикнул, словно по наитию:
– Маша! Мария!
Ни Лиза, ни Мария не отозвались.
«8 апреля в пятницу, на пятой неделе Великого поста, ее, голубки, не стало. Страдания были невыносимы, и скончалась, как праведница, с улыбкой на устах… Теперь 14-й день, как она умерла… Тяжко мне, брат Саша. Маме скажи, чтобы не горевала, что было между ей и Лизой, она все простила. Уже давно… О, страшная, беспощадная это болезнь, порок сердца!» – писал он в Сибирь младшему брату.
Ну да, он уже знал причину смерти своей ненаглядной. Однако от этого было ничуть не легче.
«Я, брат, с ума схожу… жизнь моя надломлена, что будет дальше, и представить себе не могу», – писал снова и снова.
Он воистину сходил с ума и роптал на Бога.
Михаил Нестеров, художник и друг, вспоминал потом об этих днях: «Суриков забросил работу. После мучительной ночи вставал он рано и шел к ранней обедне. Там, в своем приходе, в старинной церкви, он пламенно молился о покойной своей подруге, почти исступленно, бился об плиты церковные горячим лбом… Затем, иногда во вьюгу и мороз, в осеннем пальто бежал на Ваганьково и там, на могиле, плакал горькими слезами, взывал, молил…»
Кузьма, рыжий могильщик, нашел его однажды полузамерзшим, привел, почти на руках принес домой. С тех пор по ночам, случалось, нарочно приходил к могиле, караулил: не прибежал ли Василий Иванович вновь? Не надо ли снова его спасать? Эх, улетела его ласточка нежная, черноокая! Беда…
Более года художник не брал кисть в руки.
Понимая, что потеря рассудка уже близка и горя можно не пережить, весной 1889 года Суриков вместе с дочерьми поехал в Сибирь.
«В то время Суриков произвел на меня впечатление нездорового человека. Говорил он как-то отрывисто коротко, несколько глухим голосом, если и случалось с ним разговориться, то часто и неожиданно впадал в задумчивость. Он был погружен в свои переживания. На глазах признаки слез», – вспоминал его друг, красноярский художник Михаил Рутченко.
Он надеялся на чудо… Но еще долго находился в состоянии уныния. И вдруг написал картину, которая показалась невероятно странной всем, кто его знал. Нет, не то удивляло, что затем, еще год спустя, он напишет (здесь же, в Красноярске) искрящееся снежным весельем «Взятие снежного городка». А такартина …
Она называлась «Исцеление Иисусом Христом слепорожденного». Сюжетом картины послужила глава 9 Евангелия от Иоанна: «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать… И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».
Суриков знал, что он – зрячий, но подвергнут унынию, а это большой грех. «Огорчение и тоска, леность ко всякому доброму делу есть отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях Божиих, – размышлял он. – По словам старцев святых, «искушений никому не избежать, но можно избежать падений».
Он взялся за полотно.
Смятение и даже ужас человека прозревшего переданы с поразительной выразительностью, а жест Христа, положившего ему руку на голову, – это величие и спокойствие. Фигура Христа – олицетворение тишины и благодати. Максимилиан Волошин писал об этой картине: «Все, что в душе художника звучит, как вопль, в произведении искусства должно выражаться молчанием».