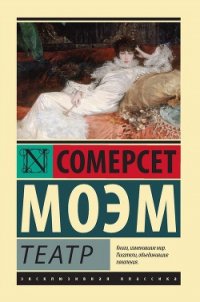Жизнь, театр, кино - Жаров Михаил (серия книг txt) 📗
семья
И ребята так же радостно, словно Лешка дал им затянуться найденным чинариком , громко заорали: Давайте! .
Лешка взял меня под мышки и торжественно посадил в сугроб, а потом все дружно и весело стали лепить из меня бабу, обкладывая кругом снегом. Снег залез уже мне за воротник и холодными струйками тек по спине, набился в валенки, рукавицы, но я боялся развалить бабу и не шевелился. Потом ребята стали все прыгать и петь:
Миша Жаров - карапуз,
Мы тебе наклеем ус!
А я стоял гордый и счастливый, что ребятам очень весело оттого, что они из меня сделали снежную бабу да еще хотят наклеить ус.
Лешка изловчился и надел мне на голову большой ком снега, но ком давил мне на затылок и почему-то все время сползал. Тогда кто-то крикнул: "Надо надеть на него ведро". Все очень обрадовались и закричали: "Ура!". Но ведра надеть не успели, вышла соседка и все испортила. Она всплеснула руками и закричала: "Батюшки мои, да что же вы делаете с ним? Разбойники!".
 |
| Семья печатника. Здесь я снят со своей младшей сестрой Лидой |
Ребята захохотали и убежали. Им было очень весело. Мне не очень. К тому же на память о снежной бабе я получил воспаление легких...
Но это, кажется, не самое смешное, что со мною случилось.
Было и посмешнее - цилиндр. Однажды, гуляя по двору один, я вдруг очень соскучился по маме и пошел к ней на работу, в мастерскую.
Я знал, что мне надо было идти из ворот "вон туда", а потом повернуть на бульвар, и опять "вон туда", а потом... А потом я увидел, что у большой парадной двери лежали два золотых льва, сел на спину одного из них верхом и стал играть в цирк. Лев был смирный, я лег к нему на спину и уснул.

Меня разбудили какие-то люди, которые показывали на меня городовому и говорили, что этот мальчик, наверное, заблудился.
Городовой спросил:
- Сколько тебе лет?
- Четыре-пять!
- А где твоя мать?
- Там!
- А как ты сюда пришел?
- Ногами!
- А где живешь?
- Там... Только я хочу есть, - сказал и заплакал.
Все замолчали. Они большие, а не знали, что я хочу баранку.
Тогда один господин в очень высокой шляпе сказал:
- Это Миша! Я его знаю. Пойдем!
Но все закричали:
- Не отдавайте, а спросите у Миши, знает ли он его.
- Миша, ты знаешь дядю? - спросил городовой.
Я сказал:
- Да, я знаю дядю! - дал ему руку, и мы пошли.
Дома мама, она была почему-то вся в слезах, схватила меня и долго целовала и шлепала:
- Горе мое, где же ты был? - И опять целовала и опять шлепала.
Но все очень радостно улыбались:
 |
| В 14 лет я уже получил рабочий паспорт: расчетную книжку, выданную конторой типографии Р. Бахмана |
Господин в шляпе зашел к нам. Мама мне сказала, что это очень важный человек. Он - наш сосед. Хозяин книжного склада. Так как отец был печатником, он заговорил с моим провожатым о книгах. Его большая шляпа, похожая на голенище сапога, стояла на сундуке в кухне.
Я взял сапожную щетку и почистил ваксой шляпу господина. Мне очень хотелось сделать ему приятное.
 |
| Вместе с профессией печатника отец передал мне и свое |
рабочее место. На снимке: отец у 'американки' Господин увидал, ахнул и сказал:
- Что же ты сделал с моим цилиндром?!
- Я его почистил ваксой, чтобы он блестел, - ответил я гордо.
Все ужасно хохотали и долго не могли успокоиться, а господин даже вытирал глаза платком и, похлопывая меня по щеке, говорил:
- Ох, уморил, ей-богу, уморил, да он у вас комик.
Мне очень понравилось, что он сказал про меня не "ком", а "комик", наверное, потому, что я был маленький. Я тоже стал хохотать. Но мама вечером, когда ложились спать, мне почему-то сказала, что я поставил ее в неловкое положение. А почему? Я не знаю. По-моему, было смешное положение.
Достаю с полки альбом немецкого художника Цилле, которого очень люблю как великолепного жанриста, подлинного поэта улицы, и перелистываю его рисунки, запечатлевшие жизнь городской детворы. Один из этих рисунков называется "На дворе". Там изображены бродячие музыканты: шарманщик и девочки-акробатки, а вокруг них стоят и сидят, прислонившись к стене, забравшись на крышу, бедняцкая детвора и их матери. Мужчин там не видно.
Я хорошо знаю эту картину. Она мне знакома до боли по тем первым детским впечатлениям, которые врезались в память на всю жизнь.
Глядя на картинки Цилле, я почему-то всегда вспоминал дом и двор, где жил, сначала в Б. Спасском, затем на Самотеке, во 2-м Волконском переулке, где прошли мои отрочество и юность. Я помню тот немой восторг, который вызывали в нас бродячие музыканты, ходившие по московским дворам. Репертуар шарманки был известен всем, разнообразие придавал лишь антураж. Чаще других к нам приходил шарманщик с попугаем. Они были ужасно похожи друг на друга, их было легко запомнить - оба худые, какие-то линялые, и оба все время моргали, как будто им хотелось спать. Пока шарманка играла разные напевы, попугай хмуро сидел, опустив голову. Но как только раздавался мотив "Маруся отравилась, в больницу ее повезли...", попка начинал быстро-быстро вытаскивать клювом билетики с предсказаниями, а потом опять грустно сникал.
Иногда вместо попугая у шарманщика была беленькая мышка, вытягивавшая бумажку - "судьбу", иногда его сопровождал музыкальный ансамбль, а то мальчик с девочкой - акробаты. Последние носили с собой маленький, истрепанный, весь в дырах коврик, расстилали его на земле и под вальс "На сопках Маньчжурии" или "Дунайские волны" начинали выполнять акробатические номера. Глядя на них, мы переживали минуты восторга.
И люди кидали в шапку шарманщика свои копейки, глубоко веря, что эта маленькая беленькая мышка держит их судьбу в своих зубах. А женщина с бубном хриплым усталым голосом пела:
Как с чайкой охотник, шутя и играя,
Он юное сердце навеки разбил...
Навеки погублена жизнь молодая,
Нет счастья, нет веры и нет больше сил!..
Но самым большим подарком для ребят был озорной Петрушка в красной рубахе и с отбитым носом. Этому носу очень доставалось - по нему били палкой, издававшей щелчок: "чик-чик". Я жалел Петрушку, он был моим первым и самым любимым актером. Когда во дворе появлялась ширма кукольника, я брал сестру Лиду за руку, и мы как зачарованные ходили за Петрушкой из двора во двор, смотря по десятку раз одно и то же представление.
Мой отец, Иван Николаевич Жаров, был типографом, печатал на "американке". Воспитанник "сиротского дома", он прошел тяжелую и суровую школу жизни. Будучи учеником в маленькой типографии, выполнял все: был нянькой хозяйских детей, в хозяйских опорках бегал по Москве, разнося заказы, получал затрещины от мастеров, если задерживался, покупая водку в "казенке". Он пережил все, вплоть до солдатской муштры. Сирота, не знавший материнской ласки, он полюбил мою мать нежно и, как говорил, с "уважением". Детей было много, но осталось в живых только четверо. На сочувственные замечания соседок: "Жить-то, мол, трудновато, ишь сколько наплодили", - неизменно весело отвечал: "Все наше, все с нами!".
Он был удивительно энергичным, с необузданной фантазией. Его всегда окружали друзья, и в доме было шумно. После работы он никогда не ложился отдыхать, а начинал что-то делать. Его интересовало все. Больше всего он любил малярничать. Он покупал простую табуретку, стол или стул и раскрашивал их масляной краской в разные цвета, отчего жизнь в подвале делалась радостнее.