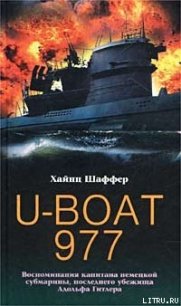Переводчик Гитлера - Шмидт Пауль (список книг TXT) 📗
Я очень сожалел о потере свободы, будучи таким образом прикован к кабинету министра, и мне также не нравилось ограничиваться в своей работе документами. Да, я имел дело с широким спектром конфиденциальных вопросов, но они не представляли для меня большого интереса. Как устный переводчик я был осведомлен обо всем, чего касались в своих беседах высокопоставленные личности, но я стал так безразличен к секретам, что больше не искал их, а ждал, что они сами найдут дорогу к моим ушам? как это фактически и было. Так что моя работа была лишена и этой привлекательной черты…
В начале второй мировой войны Верховное главнокомандование вооруженных сил размещалось в трех поездах: так называемом поезде «Фюрер», поезде Главного штаба вермахта и поезде «Генрих» для штатских, которые работали в Главном штабе. В их число входили: Гиммлер (отсюда и «Генрих»), Риббентроп и Ламмерс. «Генрих» был выставкой достижений железнодорожного транспорта на колесах. Здесь был представлен весь путь развития железнодорожных вагонов? от старинных разукрашенных карет, в которых путешествовал Карл Великий, до вагон-салона Риббентропа новейшей конструкции, с обтекаемыми линиями. Поезд был составлен из вагонов почти всех моделей, которые когда-либо катились по немецким дорогам. «Это потрясающий экспресс»,? сказал однажды Гитлер, увидев, как проносится мимо «Генрих» с коротким, но высоким «Большим герцогским салоном», старыми деревянными вагонами-ресторанами и суперсовременными вагонами «Сигнал».
Тем не менее и в таких условиях обстановка постепенно становилась невыносимой из-за постоянных трений между Гиммлером, Риббентропом и Ламмерсом. Если бы эти трое продолжали и дальше ездить вместе, то поезд, несомненно, взорвался бы от внутреннего напряжения при условии, что не разлетелся бы на куски еще раньше по причине противоположных взглядов его пассажиров насчет политических и географических путей, по которым они хотели следовать. Однако в начальный период все они более или менее двигались в одном направлении и даже имели обыкновение наносить визиты в салоны друг друга.
Небольшая бригада из министерства иностранных дел, сопровождавшая Риббентропа, жила в спальном вагоне, а работала в одном из деревянных вагонов-ресторанов. Аккумуляторы вагона-ресторана были такими слабыми от старости, что когда поезд где-нибудь останавливался даже на полчаса, свет медленно, но верно угасал. Тогда нам приходилось прибегать к свечам, воткнутым в пустые бутылки, «как будто мы живем в трущобах», говорили наименее воинственные, или «как будто мы ужинаем у „Саварена“, поговаривало большинство „неуклюжих пацифистов“, как именовал Риббентроп дипломатический корпус.
Сам министр иностранных дел беспокоил нас мало. Он сидел в своем салоне-кабинете и управлял операциями. Большей частью это заключалось в многочасовых телефонных разговорах с министерством иностранных дел в Берлине, в ходе которых он приходил в неистовство. Его вопли разносились далеко вокруг по уединенной железнодорожной ветке, на которую наш поезд обычно отгоняли.
Риббентроп загружал меня работой с утра до ночи, так как я был единственным старшим официальным лицом из его министерства, оказавшимся с ним в том поезде. Мне пришлось поддерживать постоянную телефонную связь с Берлином, для чего понадобились все мои переводческие способности. Выговоры министра второму секретарю в Берлине вроде «Скажите этому быку… „следовало перевести по телефону на более приемлемый язык. Поток негодующих восклицаний „трусы“, „лентяи“, „болваны“ и «люди, которые, кажется, не знают, что идет война“ изливался из вагона министра, и ему следовало придать другой вид, прежде чем он достигнет места назначения. Все это очень выматывало.
Одной из моих обязанностей было составление ежедневного отчета о военном положении. Каждое утро я, спотыкаясь, брел по железнодорожным путям к поезду «Фюрер» со свернутой в рулон большой картой под мышкой. Пока я беспомощно стоял перед крупномасштабной картой боевых действий, в мучениях перенося новые линии фронтов на свою карту, одному из моих знакомых в Генеральном штабе обычно становилось жаль меня. Он принимался наносить умело я четко красные и голубые стрелы, которые то продвигались вперед, то откатывались назад (там, где атаки были отбиты)? все безупречно аккуратно, с необходимыми пояснениями. Вернувшись в «Генрих», я, перешагивая через спящих, с каждым шагом чувствовал свою роль все более значительной, пока не входил в кабинет министра иностранных дел, чтобы' по всем правилам дать отчет о ситуации. Не знаю, что извлекал из этих отчетов Риббентроп? на моих коллег, казалось, производило большое впечатление, как я охватывал ладонью отдельные участки, тыкал пальцем в выступы или изображал окружение, изогнув руку. Несколько дней меня называли не иначе, как Наполеон.
Моя военная слава была кратковременной, так как из Генерального штаба прибыл полковник, чтобы осуществлять постоянную связь с нашей группой. Моя работа снова ограничилась телефонными разговорами с «идиотами» или краткими письменными сообщениями «бездельникам» и «недоумкам» в Берлин.
Некоторое время этот Главный штаб на боковой ветке небольшой прифронтовой станции, названия которой я не помню, был идеальной целью для атак с воздуха. Для нашей защиты была прислана тяжелая зенитная батарея, а «Генрих» имел свою собственную защиту в виде двух миниатюрных зенитных орудий, установленных на грузовиках, с двух концов поезда. Работников министерства иностранных дел обучали артиллерийскому делу? однажды ночью один из них случайно выстрелил из орудия, заряжая его.
Во второй половине сентября я попал в гущу событий. Поводом был ввод советских войск в Польшу; этого известия все мы ждали с некоторым нетерпением.
Одной из основных забот Риббентропа было следить, чтобы управление зарубежной пропаганды находилось в его руках, а не в руках Геббельса. Это приводило к постоянному трению между ними и поглощало большую часть времени и нервной энергии Риббентропа, даже в самые критические моменты войны.
В ночь на 17 сентября Риббентроп продержал нас до 2 часов утра. В 5 часов я получил по телефону указание сообщить ему, что русские войска вступили на польскую территорию. Я передал ему эту новость в 8 часов утра. Риббентроп был вне себя от ярости, что я не разбудил его в пять. «Немецкая и русская армии идут навстречу друг другу, могут быть столкновения? и все из-за того, что Вы промедлили и не разбудили меня!»? кричал он. Я напрасно пытался успокоить его, указав, что демаркационная линия уже была согласована и что немецкие и русские военные пользуются прямой связью. Это не привело ни к чему хорошему. Он стоял с намыленным лицом, размахивая бритвой, одетый лишь в брюки? костюм, в котором даже государственный деятель великой и победоносной нации может выглядеть очень смешным. «Вы вмешались в ход мировой истории!? громыхал он.? У Вас в этом нет никакого опыта!»
Вскоре я узнал, что этот скандал не имел никакого отношения к ходу мировой истории, а был связан в основном с личной войной Риббентропа с Геббельсом. Именно Геббельс, а не начальник пресс-службы министерства иностранных дел, сообщил в Берлине эту новость международной прессе.
Теперь Главный штаб был переведен в роскошный отель «Казино» в Сопоте на Балтийском море, недалеко от Данцига. Сидя за завтраком на террасе ресторана, мы могли наблюдать, как два старых немецких крейсера бомбардируют польскую базу в Хеле, находившуюся в 18 милях от того места. Крейсеры с их высокими трубами и палубными надстройками придавали всей этой сцене вид морского боя со старинной картины, особенно когда польская артиллерия отвечала тем же и вокруг кораблей вздымались водяные всплески. Наш отель находился вне пределов досягаемости польских орудий, иначе мало что осталось бы от этого прекрасного здания. Ровно в полдень «морское сражение» прерывалось, корабли уходили, и представление повторялось в то же время на следующий день.
20 сентября 1939 года Гитлер произнес большую речь в историческом Артусхофе прекрасного города Данцига, где горожане устроили ему восторженный прием. «Впервые я стою;? сказал он,? на земле, которую немецкие поселенцы обрели за пятьсот лет до того, как первые белые люди обосновались в нынешнем штате Нью-Йорк. И на последующие пятьсот лет эта земля была и оставалась немецкой. И она будет, пусть знает каждый, всегда немецкой».