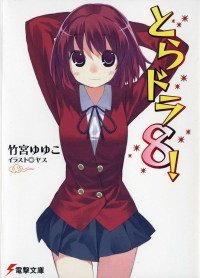Спасибо, сердце! - Утесов Леонид (читаем бесплатно книги полностью .TXT) 📗
Год сменялся годом, а я все еще оставался в нерешительности: с чем расстаться, к какому берегу прибиться? Быть синтетическим артистом хорошо, заманчиво, но когда-то надо, наверно, остановиться на чем-то одном. На чем же? Оперетта отпадала сразу. Оставались театр и эстрада. Потому-то я выбирал так долго, что и с тем и с другим жанром мне было жалко расставаться. Но в душе я чувствовал, что все больше склоняюсь к театру. Так бы оно, наверно, и было, если бы не неожиданное приглашение на гастроли в Ригу. Тогда это была «заграница». Я соблазнился и поехал. Вопрос о выборе жанра остался открытым. Через несколько лет я «закрыл» его самым неожиданным образом.
А пока идет 1927 год, и на гастроли в Ригу, в театр «Марине», я еду как актер и как чтец.
Никаких затруднений с репертуаром у меня не было, так как русский язык в Риге знали многие. И рассказы Зощенко, и «Мендель Маранц», и маленькие пьески «Ну и денек», «Арон Пудик» отлично понимались и принимались зрителями. Гастроли проходили успешно, и я получил приглашение в другие города Прибалтики.
Так как еще совсем недавно Прибалтика входила в состав России, то никакой «заграницы» я не почувствовал. Разве только в том, что здесь жизнь словно остановилась на какой-то одной точке и топчется на. месте. В Двинске, например, который в царской России был городком черты оседлости, все осталось по-прежнему: пыльные и кривые улички с поросятами и ребятишками, шумный базар, к которому через центр города тянутся нескончаемые и неторопливые подводы. Кое-где на углах стоят вместо городовых полисмены в белых перчатках (Европа!) и регулируют «движение». После лихорадки строек, споров, поисков — всей той суеты обновления жизни, которая уже стала привычным, нормальным ритмом нашего бытия, Прибалтика показалась мне замершей, тихой, почти спящей. Было ощущение, что я приехал не в Прибалтику, не в «заграницу», а в прошлое, еще не очень далекое, но уже основательно забытое.
Однако забавный рассказ нашего консула мог натолкнуть и на иные выводы. Однажды во время прогулки к нему подошел владелец кино и сказал:
— Господин консул, вы меня знаете, я хозяин кино и хочу с вами посоветоваться.
— О чем?! — спросил консул с недоумением.
— Дело в том, что я получил картину «В когтях советской власти». Показывать картину или нет.
— Но почему именно я должен вам советовать?
— Я не хочу ставить эту картину, господин консул, но другой у меня нет. Так что же мне, запереть кино?
— Но я-то здесь причем?
— Мало ли что может случиться, так знайте, что я не хотел ставить эту картину…
Нельзя, наверно, считать, что жизнь замерла, если люди втайне чего-то ждут, а может быть, и на что-то надеются.
Но прежде чем уезжать из Прибалтики, я хочу рассказать об одном инциденте, о котором я сам прочно забыл, но мне напомнили о нем работники Центрального государственного исторического архива Латвийской ССР. В архиве сохранились документы, свидетельствующие о том, что я якобы прибыл в Прибалтику не просто на гастроли, а со «специальным заданием вести коммунистическую агитацию и пропагандировать коммунистические идеи». Сохранилась даже фотография, такая, как обычно снимают преступников — анфас и в профиль, и протокол моего допроса. Конечно, никакого «специального задания» у меня не было. Но, наверно, в буржуазной Латвии дела были так плохи, что в одном только соседстве слов «богатый» и «бедный» политохранке чудились крамольные намеки. Действительно, в пьесе «Обручение», где я играл главную роль, речь шла о богатых и бедных, и я, естественно, был на стороне бедных и на сцене этого отнюдь не скрывал. Из-за этого меня посчитали «опасным актером» и поставили вопрос о высылке из Латвии…
Мне представилась возможность совершить туристскую поездку по Европе, побывать во Франции и Германии. Я, конечно, поехал: надо же было увидеть наконец те страны, о которых столько слышал в детстве, околачиваясь на набережных Одессы и в порту.
Я старался увидеть как можно больше. И, конечно, мне было интересно узнать, а как в других странах делают то, чем я сам занимаюсь всю жизнь, как они поют, танцуют, какой смысл вкладывают в свои номера, какова цель их выступлений и каково, наконец, их мастерство.
Я понимал, что у них не может быть так, как у нас, — разные страны, разные национальные особенности, разные традиции, и самое главное — у нас произошла революция, у нас все «перевернулось и только укладывается». Поэтому к несходству, к непохожести я был готов, и контрасты не действовали на меня ошеломляюще. Но мастерство меня поражало. Как бы ничтожно ни было содержание номера — он часто был блестящ по мастерству. А уж такие номера, как жонглирование и эксцентрика, были просто виртуозны.
Бывает, что неизгладимое впечатление от произведения искусства получаешь там, где меньше всего этого ожидаешь. Ты ждешь потрясения от так называемого «большого искусства», от трагедии, скажем, а находишь его в жанре совершенно противоположном. В Берлине и Париже я видел много великолепных актеров, но ни один не произвел на меня такого впечатления, не оставил такого глубокого воспоминания, как клоун Грок.
Оказывается, и клоун может быть философом и умеет говорить людям такие вещи, что заставит задуматься над тем, что до сих пор казалось само собой разумеющимся, увидеть скрытый и важный смысл в том, что привык считать ясным, понятным, элементарным.
Грок, с моей точки зрения, гениальный артист. Впрочем, как это странно я сказал: «с моей точки зрения». С точки зрения огромного числа людей среди которых были и великие художники. Мне говорили, что Шаляпин, посмотрев выступление Грока, признался, что ничего лучшего за всю свою жизнь он не видывал. Почти теми же словами говорили мне о Гроке многие за границей. Все, кто знал его номер. И я присоединяюсь к ним.
Я видел Грока в театре «Скала» в Берлине. На сцену вышел человек в традиционном клоунском костюме: в необъятных брюках путались ноги, на бесстрастном, застывшем лице, обсыпанном мукой, — ярко-красный рот. Малейшую гримасу лица этот рот делал заметной, преувеличенно резкой, а неподвижному лицу придавал трагическое выражение.
Грок музыкальный эксцентрик, поэтому все его номера связаны с инструментами, которыми он виртуозно владеет, — роялем, скрипкой, концертино, саксофоном.
У человека с белым лицом и огромным красным ртом возникают самые естественные желания. Он хочет, например, поиграть на рояле. Но стул и рояль в разных концах сцены. Осознав это, Грок словно натыкается на непреодолимое препятствие: что делать? Казалось бы, просто: пододвинуть стул к роялю и играть. Но Грок в мучительном раздумье — и наконец со страшным напряжением придвигает… рояль к стулу.
Он садится за рояль, снимает цилиндр и кладет его на открытую крышку. Цилиндр скатывается на пол, как с горки. Человек до крайности смущен неожиданностью. Но как же его теперь достать? В голове Грока снова мучительно работает мысль. Наконец он взбирается на рояль, садится на крышку и проделывает путь скатившегося цилиндра.
Грок с трудом тащит огромный контрабасный футляр, он ставит его на сцену, тяжело отдувается и достает из него скрипочку, такую крохотную, что она уместилась бы на ладони.
Когда недоумевающий партнер предлагал ему более простые и естественные способы выполнения его задач, Грок с интонацией полного искреннего удивления и недоверчивости спрашивал: «Возможно ли это?»
Все свои трюки Грок делал с неподражаемой серьезностью и блеском — танцевал ли, играл ли на скрипке или рояле, жонглировал ли, но все, что бы он ни делал, было алогично, было вопреки здравому смыслу, и уже сами зрители должны были невольно задавать себе вопрос: возможно ли это?
Интересно, что Грок, настоящее имя которого Адриен Веттах, написал и издал в 1957 году (он умер в пятьдесят девятом) «Мемуары короля клоунов» под названием «Nit m-o-o-o-glich» — «Невозможно».
Зал, и я вместе с ним, покатывался от хохота, но одновременно было почему-то немного грустно. Он был философ, этот клоун Грок. (Недаром ему было «honoris causa» присвоено звание доктора философии в нескольких университетах Европы.) Он отлично понимал природу человека. Как часто мы к простой цели идем самым сложным, самым нелепым путем — от смущения, от неуверенности в себе, от непонимания обстоятельств, и еще недоумеваем, почему нам так трудно жить на свете. Удивляясь этому человеку, не понимавшему простых вещей, невольно начинаешь оглядываться вокруг, заглядывать внутрь себя и видишь много похожего.