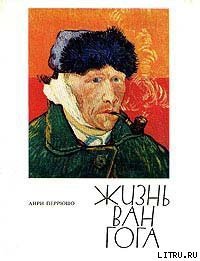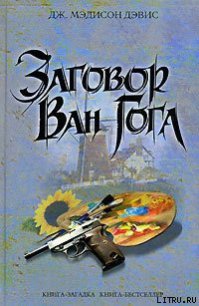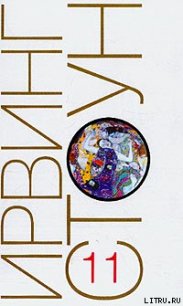Жажда жизни - Стоун Ирвинг (хороший книги онлайн бесплатно .txt) 📗
Вейсенбрух был маленький, необычайно энергичный человечек. Он не пасовал ни перед кем и ни перед чем. То, что ему не нравилось, – а не нравилось ему почти все, – он уничтожал одним язвительным словом. Он писал только то, что считал нужным, и так, как считал нужным, но заставил публику полюбить свои работы. Однажды Терстех не одобрил что—то в его полотнах, и Вейсенбрух навсегда отказался от услуг фирмы Гупиль. Тем не менее он продавал все, что выходило из—под его кисти, и никто не мог догадаться, кому и каким образом. Лицо у него было столь же резкое, как и язык: лоб, нос и подбородок походили на лезвие ножа. Все побаивались Вейсенбруха и заискивали перед ним, стараясь добиться его расположения. Он презирал вся и все, чем прославился на всю страну. Отведя Винсента в угол к камину и сплевывая в огонь, Вейсенбрух с удовольствием слушал, как шипит слюна на раскаленных углях, и поглаживал гипсовую ногу, стоявшую на каминной доске.
– Мне сказали, что вы Ван Гог, – начал он. – Неужели вы пишете картины с таким же успехом, как ваши дядюшки продают их?
– Нет, мне ничто не приносит успеха.
– Тем лучше для вас! Художник должен голодать по крайней мере до шестидесяти лет. Тогда, может быть, он создаст несколько достойных полотен.
– Вздор! Вам едва за сорок, а вы пишете превосходные вещи.
Вейсенбруху понравился этот решительный возглас: «Вздор!» Впервые за многие годы ему осмелились возразить подобным образом. Свое удовольствие он выразил новым выпадом:
– Если вам нравится то, что я пишу, лучше бросьте живопись и наймитесь консьержем. Почему я продаю свои картины дуре публике, как вы думаете? Да потому, что они дерьмо! Если бы они были хороши, я бы с ними не расстался. Нет, мой мальчик, пока я еще только учусь. Вот когда мне стукнет шестьдесят, тогда я начну писать по—настоящему. Все, что я тогда сделаю, я никому не отдам, буду держать при себе, а умирая, велю положить со мной в могилу. Художник не упускает из своих рук ничего, что он считает достойным, Ван Гог. Он продает публике только заведомую дрянь.
Де Бок украдкой подмигнул Винсенту из своего угла, и Винсент сказал:
– Вы ошиблись в выборе профессии, Вейсенбрух, вам надо бы стать критиком.
Вейсенбрух громко расхохотался.
– Ну, Мауве, ваш кузен только с виду тихоня. Язык у него подвешен неплохо!
Он повернулся к Винсенту и бесцеремонно спросил:
– Черт возьми, зачем это вы нарядились в такое отрепье? Почему не купите приличное платье?
Винсент носил старый перешитый костюм Тео. Перешит он был неудачно, и вдобавок Винсент каждый день пачкал его акварельными красками.
– У ваших дядьев хватит денег, чтобы одеть все население Голландии. Неужто они вам не помогают?
– А разве они обязаны мне помогать? Они вполне разделяют вашу точку зрения, что художник должен жить впроголодь.
– Если они не верят в вас, то дело плохо. Говорят, у Ван Гогов такой нюх, что они чуют настоящего художника за сотню километров. Видимо, вы бездарь.
– Ну и катитесь к чертовой матери!
Винсент сердито отвернулся, но Вейсенбрух ухватил его за руку. Лицо у него сияло в широкой улыбке.
– Ох и характер! – воскликнул он. – Я хотел только испытать, насколько у вас хватит терпения. Не падайте духом, мой мальчик. Вы скроены из крепкого материала.
Мауве с удовольствием разыгрывал перед гостями разные сценки. Он был сыном священника, но всю жизнь знал лишь одну религию – живопись. Пока Йет разносила чай, пирожные и сыр, Мауве прочитал проповедь насчет рыбачьей лодки апостола Петра. Купил Петр эту лодку или получил по наследству? Или, может быть, приобрел ее в рассрочку? А может, – страшно подумать, – он ее украл? Художники дымили трубками и от души хохотали, налегая на сыр.
– Мауве сильно изменился, – пробормотал Винсент.
Винсент не знал, что Мауве переживает одну из своих творческих метаморфоз. Мауве начинал свои картины вяло, работая почти без интереса. Постепенно, по мере того как замысел креп и овладевал его сознанием, в нем просыпалась и энергия. С каждым днем он трудился все усерднее и простаивал за мольбертом все дольше. И по мере того, как изображение проступало на полотне яснее, художник становился все требовательнее к себе. Теперь он уже забывал о семье, о друзьях, обо всем, кроме работы. Он терял аппетит и целыми ночами лежал без сна, обдумывая картину. Силы его падали, беспокойство росло. Он держался на одних нервах. Его большое тело становилось тощим, а мечтательные глаза заволакивала дымка. И чем больше он уставал, тем упорнее работал. Нервный подъем, владевший им, захватывал его все сильнее и сильнее. Внутренним чутьем он угадывал, сколько времени потребуется, чтобы кончить работу, и напрягал свою волю, чтобы выдержать до конца. Он был похож на человека, одержимого тысячью бесов; у него были впереди целые годы, и он мог не торопиться, но он все подгонял себя, не зная ни минуты покоя. В конце концов он доходил до такого неистовства, что, если ему кто—нибудь попадался под руку, разыгрывались ужасные сцены. Он вкладывал в картину все свои силы, до последней капли. Как бы ни затягивалась работа, у него доставало упорства тщательно отделать ее, довести ее до последнего мазка. Ничто не могло сокрушить его волю, пока полотно не было завершено.
Закончив картину, он валился с ног от изнеможения. Он был слаб, болен, почти безумен. Йет должна была долго ухаживать за ним, как за ребенком, пока к нему не возвращались силы и рассудок. Мауве был так измучен, что один вид или запах красок вызывал у него тошноту. Медленно, очень медленно приходило к нему выздоровление. Вместе с крепнувшими силами появлялся и интерес к работе. Он уже бродил по мастерской, стирая и стряхивая пыль с полотен. Потом выходил в поле, но на первых порах ничего не видел вокруг себя. В конце концов какой—нибудь пейзаж выводил его из оцепенения. И все начиналось снова.
Когда Винсент приехал в Гаагу, Мауве только приступал к своей схевенингенской картине. А теперь его лихорадило все сильнее и сильнее, он стоял на пороге самого безумного, самого прекрасного и всепоглощающего исступления – творческого исступления художника.
Как—то вечером в мастерскую Винсента постучалась Христина. На ней была черная юбка, темно—синяя блуза, волосы прикрывала темная шляпка. Весь день она простояла у корыта. Как всегда в минуты крайней усталости, рот у нее был полуоткрыт, а оспины на лице показались Винсенту особенно крупными и глубокими.
– Здравствуй, Винсент, – сказала она. – Решила поглядеть, как ты живешь.
– Христина, ты первая женщина, которая зашла ко мне. Как я рад тебя видеть! Позволь, я помогу тебе снять платок.
Она присела к печке погреться. Затем внимательно оглядела комнату и сказала:
– Тут не плохо. Только вот пустовато.
– Я знаю. У меня нет денег на мебель.
– Да, денег у тебя, как видно, не густо.
– Я как раз собирался ужинать, Христина. Не хочешь ли поесть вместе со мной?
– Почему ты не зовешь меня Син? Меня все так зовут.
– Ну, хорошо, пусть будет Син.
– А что у тебя на ужин?
– Картошка и чай.
– Я сегодня заработала два франка. Пойду куплю немного говядины.
– Деньги—то у меня есть. Мне кое—что прислал брат. Сколько надо на мясо?
– Больше чем на пятьдесят сантимов мы, я думаю, не съедим.
Скоро она вернулась со свертком в руках. Винсент взял у нее мясо и принялся было за стряпню.
– Садись на место, слышишь? Ты ничего не понимаешь в хозяйстве. Это женское дело.
Когда она склонилась над печкой, отблеск пламени заиграл на ее щеках. Теперь она казалась очень хорошенькой. Когда она нарезала картошку, положила ее вместе с мясом в горшок и поставила на огонь, это выглядело так естественно и дышало таким уютом! Винсент сел на стул у стены и смотрел на Христину – на душе у него стало тепло. Это был его дом, и вот рядом с ним женщина, любовно готовящая ему ужин. Как часто он мечтал об этом, представляя себе в роли хозяйки Кэй! Син взглянула на него. Она увидела, что Винсент вместе со стулом резко откинулся к стене.