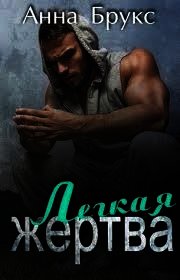Мой последний вздох - Бунюэль Луис (книги полностью бесплатно .txt) 📗
Лишь в возрасте шестидесяти или шестидесяти пяти лет я полностью осознал невинный характер воображения. Все это время понадобилось мне, чтобы понять факт, что все происходящее в моей голове касается лишь меня одного и никоим образом не является, как говорят, ни «дурными мыслями», ни грехом и что не надо сдерживать свое распоясавшееся воображение.
С тех пор я могу представить себе все что угодно, я говорю: «Ну ладно, я пересплю с матерью. Что из того?»И тот час, изгнанные моим равнодушием, картины преступления и инцеста отходят на второй план.
Воображение — наша главная привилегия. Необъяснимое, как и порождающая его случайность. Всю свою жизнь я старался признать, не пытаясь вникнуть, принудительный характер образов, которые возникали в моем воображении. Так в Севилье во время съемок картины «Этот смутный объект желания» под воздействием внезапного вдохновения в конце одной сцены я вдруг попросил Фернандо Рея подобрать большой джутовый мешок помощника оператора, лежавший на скамье, и, удаляясь, набросить его себе на плечи.
Одновременно я понимал всю тональность такого поступка и немного боялся его. Я снял два варианта сцены — с мешком и без него. На другой день во время просмотра материала вся группа согласилась — и я тоже, — что сцена с мешком была лучше. Почему? Трудно сказать, не впадая в психоаналитические штампы или в другие объяснения.
Психиатры и психоаналитики много писали о моих картинах. Я благодарен им, но никогда не читал их сочинений. Они меня не интересуют. В следующей главе я скажу, что думаю о психоанализе как о прекрасном терапевтическом средстве. Добавлю лишь, что иные, отчаявшись понять, объявили меня «не поддающимся анализу», словно я принадлежу к иной культуре, иному времени — что, в общем-то, вполне возможно.
Пусть пишут. Мое неуязвимое воображение поможет мне прожить до конца. Ужасно, если все понимаешь. Какое счастье, когда способен встретить неожиданность. С годами эти старые привычки стали еще очевиднее. Я понемногу отстраняюсь. В минувшем году я подсчитал, что за шесть дней, то есть за сто сорок четыре часа жизни, я лишь три часа беседовал с друзьями. Остальное время — предавался мечтам, сидел в одиночестве, пил воду или кофе, дважды в день — аперитив, удивлялся возникшему воспоминанию, посетившему видению. Одна вещь тянула за собой другую — и вот уже наступал вечер.
Если то, что я написал выше, покажется запутанным и скучным, прошу прощения. Подобные размышления, как и фривольные подробности, составляют часть нашей жизни.
Я не философ, я никогда не был склонен к абстракциям. Если иные философские умы, или считающие себя таковыми, улыбнутся, читая мои рассуждения, я буду рад тому, что доставил им минуту развлечения. У меня такое чувство, будто я снова оказался в сарагосском коллеже иезуитов. Указуя перстом на одного из учеников, учитель говорит ему: «Опровергните Бунюэля!» И это занимает всего две минуты.
Я лишь старался быть как можно понятнее. Испанский философ Хосе Гаос, умерший не так давно, писал, как и все философы, на невероятном жаргоне. Однажды он так ответил человеку, который упрекнул его за это: «Тем хуже для вас! Философия предназначена для философов».
На что приведу фразу Андре Бретона: «Философ, который мне непонятен, — негодяй». Я полностью с ним согласен, хотя подчас не без труда понимаю, что говорит сам Бретон.
Снова Америка
В 1939 году я находился в Нижних Пиренеях, в Байонне. В мои задачи организатора пропаганды входила переправка через границу на воздушных шарах листовок. Друзья коммунисты, позднее расстрелянные нацистами, занимались запуском шаров, используя подходящее направление ветра.
Подобная деятельность казалась мне довольно бессмысленной. Ведь шары могли опуститься где угодно, упасть на поля, в леса. Да и какую роль мог сыграть листок бумаги, присланный неизвестно откуда? Придумал это один американский журналист, друг Испании, немало сделавший для Республики.
Я отправился к испанскому послу в Париж, последнему послу Республики, Марселино Паскуа, бывшему министру здравоохранения, и высказал ему свои опасения. Не может ли он предложить что-нибудь более разумное?
В то время в США снимались фильмы, где рассказывалось о войне в Испании. В одном из них играл Генри Фонда. В Голливуде готовились к съемкам картины «Груз для невинных», о б эвакуации Бильбао.
Эти фильмы грешили грубыми ошибками и неточностями в воссоздании местного колорита. Паскуа посоветовал мне вернуться в Голливуд и предложить себя в качестве «консультанта по техническим и историческим вопросам». У меня оставались какие-то средства от зарплаты, получаемой в течение трех лет. Сумму, которой не хватало для приобретения билетов на меня, жену и сына, дали друзья, в том числе Санчес Вентура и одна американка, много сделавшая для Испанской республики.
Мой прежний консультант Фрэнк Девис был продюсером фильма «Груз для невинных». Он тотчас взял меня в качестве консультанта по историческим вопросам, добавив, что, с точки зрения американцев, неточности не имеют большого значения, и дал прочесть почти законченный сценарий. Я уже готов был приступить к работе, когда из Вашингтона пришло распоряжение. Ассоциация американских кинопродюсеров, подчинявшаяся, естественно, правительственным директивам, просто-напросто запретила съемки любого фильма о войне в Испании — независимо от того, направлен он в поддержку Республики или против нее.
Я остался на несколько месяцев в Голливуде. Деньги потихоньку таяли. Не имея средств вернуться в Европу, я стал подыскивать работу. Я даже встретился с Чаплином, чтобы продать ему некоторые «гэги». Отказавшись подписать петицию в защиту Республики — тогда как Джон Уэйн, например, председательствовал в комитете в поддержку Франко, — он просто надул меня.
В связи с этим расскажу о таком совпадении. Подсказанный сном, в одном из «гэгов» револьвер стрелял так вяло, что пуля падала на землю, едва вылетев из дула. Тот же «гэг» можно обнаружить в чаштиновском «Диктаторе», когда большой снаряд вылетает из огромной пушки. Совпадение чисто случайное, ведь Чаплин не мог знать о моей выдумке.
Найти работу было невозможно. Я встретился с Рене Клером, в то время одним из самых знаменитых режиссеров в мире. Он отказывался от всех предложений — ни одно не устраивало его. Но признался, что в течение ближайших трех месяцев все равно придется снять картину, иначе его за отказ станут считать «европейским блефом». В результате он сделал фильм «Я женился на ведьме», который оказался вполне приличным. Рене Клер проработал в Голливуде всю войну.
Я был совсем одинок и без средств к существованию. А де Ноайли писали, не найду ли я интересной работы для Олдоса Хаксли. Очаровательная наивность! Как мог я, одинокий и никому не известный человек, найти работу прославленному писателю?
В тот самый момент я узнал о призыве мужчин моего возраста. Мне надлежало ехать на фронт. Я написал нашему послу в Вашингтоне, что нахожусь в его распоряжении, прося о репатриации вместе с женой. Он ответил, что надо подождать, ситуация, мол, неясна. Едва я понадоблюсь, мне сообщат.
Спустя несколько недель война закончилась.
Сбежав из Голливуда, где мне нечего было делать, я отправился в поисках работы в Нью-Йорк. Мрачный период в моей жизни, Я согласен был принять любое предложение.
В течение долгого времени за Нью-Йорком слыла слава — не легенда ли это? — гостеприимного и благородного города, где легко найти работу. Я встретил тут каталонского механика, некоего Гали. Приехав в 1920 году с другом-скрипачом, они тотчас получили работу. Скрипача взяли в Филармонический оркестр, а механика Гали — танцором в большой отель.
Сейчас были иные времена. Гали представил меня другому каталонцу, рэкетиру, знакомому с одним полугангстером, возглавлявшим профсоюз поваров. Мне дали письмо и велели явиться в отель. С такой протекцией я мог в лучшем случае получить место на кухне.
В конце концов я не пошел туда. Я встретился с женщиной, которой многим обязан. Это англичанка Айрис Бэрри, жена вице — президента Музея современного искусства Дика Эббота. Айрис прислала мне телеграмму, пообещав обеспечить квартирой. Я поспешил к ней.