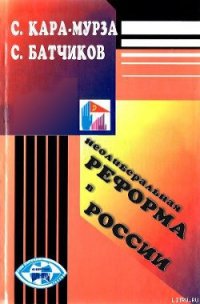«Совок» вспоминает свою жизнь - Кара-Мурза Сергей Георгиевич (мир бесплатных книг .txt) 📗
Отнес я эту бумажку по “Внештехнику”, отдал. Прочел ее чиновник, удивился: “Что это такое — неправильное личное поведение? Что ты там натворил?”. Да, говорю, начальника группы и парторга на собрании подонками назвал. Он хмыкнул, с каким-то удовольствием, подколол характеристику к делу — и я поехал на Кубу.
Такова уже была наша советская тоталитарная система.
Конечно, те начальники на Кубе, которые на время из обычных преподавателей вдруг превратились во власть, тогда помытарили меня, были безжалостны — до определенного предела. В этой их жестокости было что-то детское. Бывает такой возраст, когда ребенок уже может стукнуть тебе по голове молотком, у него уже есть сила, но нет понимания. Глядя на них и даже отвечая им жестокостью, я не только не испытывал ненависти или хотя бы неприязни к советской системе, это мне показалось бы верхом идиотизма, но у меня не было ненависти и к этим людям. В них было почвенное, очень близкое, “скифское” хамство. Оно должно выходить из человека по капле, и оно выходило. Я бы сказал, выходило в нашем народе очень быстро — по историческим меркам. Есть у меня такое чувство, которого я не берусь обосновать, что насильственное “изгнание” этого скифского хамства из западного человека (через возведение на пьедестал индивида с его правами) породило нечто худшее, куда более страшное. Хотя, может быть, и удобное.
К тому же я смутно чувствовал, хотя и не давал хода этой мысли, что по большому счету я в том конфликте был не прав. Именно по большому счету — ведь когда тебя пытаются стереть в порошок, тебе не до большого счета, надо решать срочную и жизненно важную проблему выживания. Но потом полезно рассудить и по большому счету. Получается такая картина.
То, что начальство обозлилось на меня гораздо сильнее, чем на того, за кого я заступился, понятно. У того вина была частная и ограниченная, а я поставил под сомнение само их право судить да рядить, а также те процедуры, которые они считали справедливыми и уместными. То, что я в этом нашем принципиальном столкновении не только не пошел на попятную, но еще и проявил увертливость, сделало меня в их глазах опасным смутьяном, которого обязательно надо было усмирить.
Вот, они хотели немного проучить человека, тяжелого в общежитии — он мучил студентов “ленинским определением материи”, донимал своих земляков занудливыми и мизантропическими комментариями. Они только хотели привести его в чувство, заставить уважать других в трудных условиях заграницы. Я по сути против этого и не возражал — но прицепился к их методу. И тут по большому счету они были мудрее и гуманнее меня.
Нас загнала в тяжелый конфликт недоговоренность, отсутствие навыка уклончивого диалога. Парторг, если бы умел формулировать ускользающие вещи, которые он интуитивно понимал, мог бы сказать мне примерно следующее: “Наше наказание было бы ритуальным и даже абсурдным, это всем было понятно, но для него оно стало бы предупреждением. Он бы смекнул, что все мы чем-то недовольны, но наказание не было бы для него разрушительным. Ах, он предложил кубинцам неактуальные темы! Придя домой, он сказал бы жене: эти идиоты ни бельмеса в химии не смыслят.
А теперь представь, что мы обвинили его именно в том, в чем он действительно виноват: ты, мол, страшный зануда и пессимист, с тобой рядом находиться людям невозможно. Каково было бы ему и его семье? А ведь это именно то, чего ты от нас требовал с твоей глупой выходкой на партсобрании”.
Но парторг формулировать не умел, да и стеснялся. А я, перейдя грань, уже не мог остановиться.
На Кубе, вдали от России, во мне улеглось и даже слегка успокоилось то, что было заложено советским воспитанием, нашей бурной, невыносимо напряженной советской жизнью 40-60-х годов. Рано утром в Сантьяго меня будило пение множества боевых петушков, которые перекликались от одной трущобы к другой. Несмотря на закон, запретивший петушиные бои, старики в лачугах продолжали этих петушков выращивать, и они кукарекали, привязанные за лапку к колышку. Это солнце и это бодрое пение наполняли сердце радостью. Ночью все затихало, и без пяти двенадцать кто-то проезжал по проспекту мимо моего дома верхом, цокая подковами. Стук копыт слышался издалека, когда он спускался с холма, въезжая в город. Видно, этот человек где-то работал ночным сторожем и ехал из деревни. Целый год каждую ночь я ждал топота его лошади, идущей рысью — и ни разу он не заболел и не опоздал. Один только раз он чуть-чуть задержался, с холма пошел галопом. Когда я его слышал, на душе становилось спокойно — и сон был крепким, до петухов. И все это на Кубе опиралось плечом на силу и мысль советского строя.
Как жадно ждали наши демократические интеллигенты, чтобы эта Куба рухнула без СССР, озверела от голода, разложилась. Как сладострастно они смаковали каждое издевательское сообщение. Ура, на набережной Гаваны опять появились проститутки! Ура, потребление белка на Кубе снизилось ниже физиологически допустимого уровня! Ура, нет горючего для автобусов — на улицах появились рикши. Как их бесило, что не растет на Кубе детская смертность, не закрываются школы. Насколько люди, проникнутые нашим “скифским” хамством, благороднее и добрее, чем эти защитники прав человека.
Куба выкарабкивается, хотя еще ждут ее самые трудные времена — смена поколений. Молодые ее интеллигенты, у которых в детстве уже не было рахита и костного туберкулеза на почве голода, не верят, как и мы в 80-е годы, что голод существует. Во всяком случае, не верят, что он может ударить и по их лично детям. Но им уже нестерпимо скудное для всех существование. Они, уверенные, что желают улучшить любимую социалистическую систему, “не знают общества, в котором живут”.
Последний раз я был в Гаване в октябре 1999 г. Да, по улицам, изнемогая на подъемах, везут седоков рикши на тележках, построенных из велосипеда. Молоденький полицейский ведет девочку-проститутку, будет говорить с родителями. Слышно, как он ей внушает на простонародном наречии: “Тебе надо учиться, а ты чем занимаешься”. Она гримасничает. В предместье на перекрестке шоссе “желтый человек” (в особом желтом комбинезоне) останавливает грузовики, проверяет путевой лист и сажает, сколько можно, людей, которым нужно ехать в том же направлении. Остальные терпеливо ждут в тени.
Людьми моего возраста и старше там овладела одна мысль, полная трагизма. Эти люди выражают ее на удивление одинаково — значит, она витает в воздухе. Рикша остановился передохнуть около меня на набережной. Разговорились. Он сказал: “Пока старики у власти, мы живы. Придут молодые — и продадут нас, как Горбачев продал вас”. Вечером, по холодку, гулял старик с внучкой — нарядной, в красивом платьице, счастливой. Перекинулись парой фраз. Он сказал: “Пока старики у власти, мы живы. Придут молодые — мы все подохнем”. Чем я мог его утешить? Только тем, что подохнут не все. Назавтра — лекция перед студентами гуманитарных факультетов. Светлые лица. Родина или смерть! Говорю о перестройке, о результатах либеральной реформы — формально верят, а за живое не берет. Понятия “ мы подохнем ” нет в их интеллектуальном аппарате.
В день гибели Камило Сьенфуэгоса, как обычно, все школьники Гаваны двинулись к набережной — бросить в море цветок. Все в красивой, отутюженной форме, все веселые и здоровые. За время, пока я там не был, лица детей стали тоньше, повадки сдержаннее, разговор насыщеннее. Какой контраст с тем, что я видел за эти годы в Мексике, Бразилии и даже Уругвае. Куба вырастила поколение юных аристократов — не на свою ли голову? Увидим, но иначе воспитывать детей никто не хотел. Сложное общество потому и хрупко.
Из гавани вышел и пошел вдоль набережной военный корабль, ракетоносец. Сильное волнение, он почти скрывается между волнами. На палубе неподвижно строй матросов в парадной форме. Будут бросать большой венок. Корабль догоняют военные вертолеты, дверцы открыты, видны венки. Вдоль набережной — десятки и десятки тысяч детей, с восторгом смотрят и на красивый кубинский корабль, и на вертолеты. Я тоже смотрю — они построены еще в СССР.