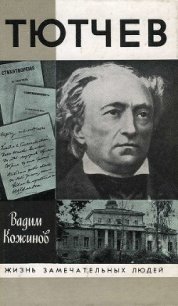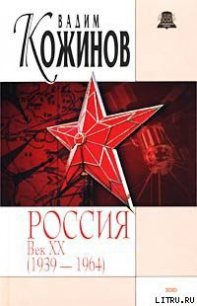Пророк в своем отечестве - Кожинов Вадим Валерьянович (электронную книгу бесплатно без регистрации TXT) 📗
Эти идеи нередко способны захватить воображение сами по себе (например, характерные для шеллингианства образные идеи ночи, бездны, хаоса и т. п.), однако истинная, художественная ценность поэзии Тютчева заключена, конечно, не в этих идеях, существующих ведь и помимо, вне тютчевских стихотворений. Истинная ее ценность — в господствующем в ней «мощном духе» лирического героя, для которого шеллингианские и иные идеи являются только типичными для эпохи духовными «жестами» (конечно, «жестами» подлинно значительными, яркими, масштабными; ведь без таких жестов и не создался бы облик этого героя!).
Между прочим, далеко не все стихотворения Тютчева вбирают в себя собственно философские идеи. Вот, к примеру, известное стихотворение 1834 года:
В свое время В. В. Гиппиус рассуждал в связи с этим стихотворением об особенной тютчевской «философско-исторической категории веры». Но если вдуматься, стихи эти едва ли уместно называть философскими; мы просто привыкли видеть повсюду у Тютчева нечто «философское». Представление о лютеранстве и о протестантстве в целом как о прямой дороге к безверию, к полной потере веры было во времена Тютчева поистине общим местом в устах тех, кто исповедовал христианство в его изначальной форме. И подлинная суть стихотворения заключена не в этой вполне элементарной «мысли», но в целостном переживании лирического героя — переживании духовной драмы, даже трагедии людей, стоящих на том пороге, за которым необратимо исчезнет вера, веками являвшая собой незыблемую опору бытия.
Это переживание всемирно-исторической духовной драмы воплощено простыми, но могучими в своей осязаемости образными средствами; решающую роль здесь играют, пожалуй, завораживающие повторы строк, — то неполные, то полные и к тому же откликающиеся через разное количество строк («В последний раз вам Вера предстоит» — «В последний раз вы молитесь теперь»; «Еще она не перешла порогу» — и то же самое через строку: «Но дом ее уж пуст…» — «Но час настал, пробил»; «Еще она…» — «Еще за ней…»).
Словом, важна не «мысль», а захватывающее и полное глубокого драматизма напряжение духа. Но это относится и к тем стихотворениям, которые содержат очень весомую, способную поражать своей собственной сплои идею — «Видение», «Как океан объемлет шар земной…», «Цицерон», «О чем ты воешь, ветр ночной…», «Тени сизые смесились…», «Весна», «Колумб» и др.
Ценность этих стихотворений опять-таки отнюдь не в «мысли» самой по себе, а в безграничном, вселенском размахе духа. Высота и сила самой мысли в этих стихотворениях нужны, даже необходимы для воплощения духовного размаха. Но суть все же не в выражении яркой мысли, а, если угодно, в создании образа великого — всесильного и бесстрашного — человека-мыслителя.
Мысль как таковую мы воспринимаем в качестве определенного «предмета», которым мы можем восхищаться — но «со стороны»; между тем, воспринимая стихи Тютчева, мы сливаемся с их творческим субъектом, мы словно сами становимся высокими и могучими мыслителями, способными всем существом воспринять, что:
Образ человека-мыслителя, воплощенный в поэзии Тютчева, поистине всемогущ; его дух свободно обнимает беспредельность пространства Вселенной и всю глубину времени. И при всем том тютчевское творчество не перестает быть подлинной лирикой — даже глубоко «интимной» лирикой, обращенной к сокровенной душевной жизни каждого человека. Это прямо и открыто выразилось в одном из ключевых стихотворений поэта — «Весна», завершающемся призывом к каждому, любому человеку (и в том числе, конечно, к самому себе):
Мы говорим теперь только о тютчевской поэзии конца двадцатых-тридцатых годов, ибо в сороковые годы Тютчев почти перестает писать стихи, а в пятидесятых является уже по сути дела как иной, новый поэт.
В 1828–1839 годах Тютчев создал около семидесяти своих высших творений, большинство из которых принадлежит к ценнейшим образцам не только русской, но и мировой поэзии. За немногими исключениями стихи эти были написаны в Германии, и их связь с поэтической и философской культурой этой страны несомненна.
Но — о чем уже не раз говорилось — совершенно неверно истолковывать это как некую присущую именно Тютчеву «германскую ориентацию». Иван Киреевский, а позднее и сам Пушкин видели в «дружбе с поэзией германской» удел целого поколения русской поэзии, своеобразную стадию, эпоху ее развития. Дело шло о том, что накануне величайшего расцвета русской литературы (и культуры в целом) центр, средоточие общечеловеческого духовного творчества находилось именно в Германии. И, вполне естественно, русская культура должна была опереться на германское духовное творчество. Очень характерно, например, что юный Гоголь, учась в конце 1820-х годов в Нежинском лицее, прямо-таки бредил Германией (первое его произведение — «Ганц Кюхельгартен» — говорит само за себя) и, поселившись в январе 1829 года в Петербурге, при первой же возможности (в июле того же года) на несколько недель вырвался не куда-нибудь, а в Германию.
Словом, поэзия Тютчева тридцатых годов, если ставить вопрос принципиально, была ориентирована на Германию в такой же степени, как и русская культура того времени вообще. Разумеется, в ряде стихотворений (их примерно полтора десятка) поэт воплотил свои непосредственно германские и, шире, европейские впечатления. Это очевидно, например, в таких его вещах, как «Утро в горах», «Снежные горы», «Альпы», «Над виноградными холмами…», «Я лютеран люблю богослуженье…», «И гроб опущен уж в могилу…», «Там, где горы, убегая…», «Я помню время золотое…», «1 декабря 1837», «Итальянская villa», «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный…» и др.
Но, как говорил Гоголь, «поэт может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир». Так, скажем, в стихотворении «И гроб опущен уж в могилу…» воплощено, без сомнения, характерно русское восприятие чеканно и благообразно оформленного западного быта, — восприятие, впоследствии не раз выразившееся в творчестве Толстого, Достоевского, Лескова:
Это, пожалуй, мог написать именно и только русский поэт, который позднее скажет в одной из своих статей: «Мы знаем фетишизм людей Запада относительно всякой формы… Этот фетишизм — как бы последнее религиозное верование Запада»…