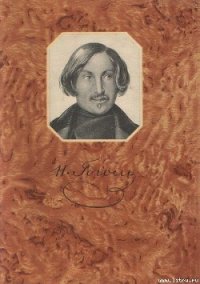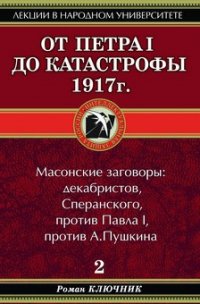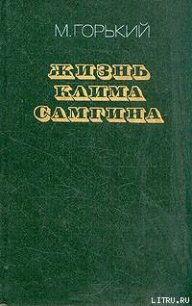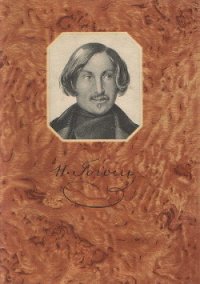Гоголь - Золотусский Игорь Петрович (читать книги онлайн полностью .txt) 📗
Студенты окружили его в коридоре, просили дать списать лекцию, он отвечал, что она у него только набросана. Час актерства стоил ему многого. Он легко держался на кафедре, а лицо у него таки побледнело, когда вошел ректор и попросил разрешения присутствовать. Он осекся было, пал духом, но взял себя в руки, и никто не заметил, как он вынырнул из этой ямы.
Да, то был скорее театр, нежели ученье. Преподаватель готовился, разыгрывал роль дома перед зеркалом — слушатели шли на лекции как на представления, как на импровизации чтеца-артиста, который к тому же и сам поэт.
А в один из дней он устроил спектакль, который редким составом своих участников вошел в историю университета. «...Однажды, — вспоминает об этом Н. И. Иваницкий, — ...ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь. Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру, и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая... Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их/ поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: „увлекательно“...»
Гоголь «делал вид, что не знал о предстоящем визите, и выслушивал похвалы Пушкина и Жуковского с достоинством человека, не очень им знакомого. Он угодил Пушкину не только исполнением, но и идеей лекции — лекция была о восточном правителе Аль-Мамуне, который „государство политическое“ вознамерился превратить в „государство муз“. Мысли Пушкина о просвещенном монархе слишком сквозили в этой поэтической компиляции. Поэты подают советы царям, говорил Гоголь, но не служат правительству. „Их сфера совершенно отдельна; они пользуются верховным покровительством и текут по своей дороге“. Правда, он делал исключение для некоторых, подразумевая при этом не только присутствующих в зале Пушкина и Жуковского, но и себя, — еще тех «великих поэтов, которые соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, которых глагол слышится всем народом. Мудрые властители чествуют их своею беседою, берегут их драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней деятельностью правителя. Их призывают они только в важные государственные совещания, как ведателей глубины человеческого сердца».
Одним словом, это была лекция о поэтах и для поэтов. Исторический идеализм Гоголя не смущал студентов, он, наоборот, увлекал их, и они мечтали о чем-то подобном: юность верит в утопии, верил в них и ее молодой наставник.
Но недолго держалось его вдохновение. Вскоре оно стало иссякать, блеснувший, как метеор, на университетской кафедре, взлетевший, воспаривший над аудиторией, над историческим материалом, над скучными фактами, оп перегорел, сгорел — его хватило лишь на две-три вспышки. Потому что и фактов под рукой не было, и читать было не о чем, а перечитывать уже читанное другими, пересказывать их он не мог. Надо было переходить на прозу исторических занятий, на разработку курса во всей его последовательности, со свойственной науке системою и обстоятельным штудированием источников, но не было ничего ненавистнее для него, чем система. «Все следующие лекции Гоголя, — пишет Иваницкий, — были очень сухи и скучны... Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена... Бывало, приедет, поговорит с полчаса с кафедры, уедет, да уж и не показывается целую неделю, а иногда и две. Потом опять приедет, и опять та же история...»
Нет, история не «горела» — от нее уже несло холодом, как от университетских каменных стен, от высокого потолка, от Невы, глядевшей в окна, и от самой северной Пальмиры, из которой вдруг резко потянуло его в родные места, на юг.
Попытку сбежать туда он предпринял раньше, но она не удалась. Маясь в институте, маясь в своей тесной квартирке за столом, где ему не писалось, он задумал занять кафедру в Киевском университете Святого Владимира, об открытии которого объявили на исходе 1833 года. Он узнал, что туда едет из Москвы Максимович — возможность иметь при себе попутчика и единомышленника соблазнила его еще больше. Он решил въехать в древнюю столицу России на белом коне — в качестве ординарного профессора всеобщей истории. Он думал, что ему, знакомому с Пушкиным, Жуковским, с Плетневым, Вяземским и другими, это ничего не будет стоить. Одно слово министру, которое скажет каждый из них, один намек Жуковского, оброненный им при дворе, — и Киев откроет ему гостеприимно ворота.
«Туда, туда! в Киев! в древний, в прекрасный Киев!» — взывает он к Максимовичу. «Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве, — уверяет он Пушкина. — Там я выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украины и юга России и напишу Всеобщую историю, которой, в настоящем виде ее, до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе, нет».
И Пушкин верит ему. Он идет и кланяется бывшим «арзамасцам», а ныне министрам и товарищам министров Уварову, Блудову и Дашкову, и просит за Гоголя. Он убеждает их, что лучшего ординарного профессора, чем Гоголь, для Киева не найти. То же повторяют своим высокопоставленным друзьям князь Вяземский и Жуковский. Жуковский готов при случае в присутствии самого государя завести речь о некоем Пасичнике, веселые сказки которого, поднесенные в свое время его императорскому величеству, должно быть, понравились ему. Гоголь инструктирует своих ходатаев, как расположить к нему сильных мира сего, о каких сторонах его бедственного положения вести речь: одному о недостатках в средствах, другому о болезнях, которые не позволяют ему жить в петербургском климате, третьему о том, что сам Сергей Семенович (Уваров) выше Гизо, а в своей речи о Гёте обнаружил незаурядное литературное дарование. «Теперь же я буду вас беспокоить вот какою просьбою, — пишет он Пушкину, — если зайдет обо мне речь с Уваровым, скажите, что вы были у меня и застали меня еле жива... И сказавши, что я могу весьма легко через месяц протянуть совсем ножки, завести речь о другом, как-то о погоде или о чем-нибудь подобном. Мне кажется, что это не совсем будет бесполезно».