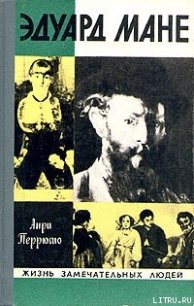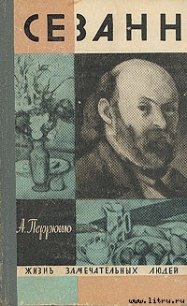Бабочка - Шарьер Анри (онлайн книга без .TXT) 📗
Я осматриваю свою камеру. Никогда бы не подумал, что у моей родины — матери Свободы, страны, первой провозгласившей «Права Человека и Гражданина», может быть — пусть даже в Гвиане, на забытом Богом острове, величиной с носовой платок — такое варварское учреждение, как изолятор.
На каждой из ста пятидесяти камер, в которые ведет лишь узкая железная дверь и форточка — надпись: «Строго воспрещается открывать дверь без указания свыше». В камере кушетка с такой же деревянной подушкой, как в Белю: она складывается и вешается на стене; бетонный выступ в заднем углу служит стулом. Высота камеры — три метра. Потолок сделан из огромных железных решеток, толстых, как трамвайные рельсы, и так плотно уложенных, что даже небольшому предмету трудно проникнуть между ними. Над камерами — дорожка для надзирателей, шириной в метр, и железные перила. Надзиратели идут навстречу друг другу; встречаясь, разворачиваются на 180 градусов, а затем идут в обратном направлении. Даже в ясный день в камере почти ничего не видно. Во избежание лишнего шума заключенные и надзиратели ходят в резиновых тапочках.
Раз, два, три, четыре, пять, — полкруга. Раз, два, три, четыре, пять — полкруга. Свисток возвещает о том, что можно опустить кушетки. Слышу громкий голос: «Новенькие, вам разрешается опустить кушетки, если вы этого хотите, и ложиться спать». Я улавливаю только слова «если хотите». Продолжаю шагать. Этот момент решает многое, и я не могу позволить себе спать. Надо привыкнуть к этой, открытой сверху, клетке. Раз, два, три, четыре, пять. Я сразу вошел в ритм; голова наклонена, руки сложены за спиной, одинаковые шаги… Делая пятый шаг, я даже не вижу стены, а лишь легонько касаюсь ее, поворачиваюсь и продолжаю бесцельную ходьбу, конца которой не видно.
Ты кажешься себе тигром в клетке, на которого сверху смотрит охотник. Потрясающее впечатление, и пройдет немало месяцев, пока я к этому привыкну.
В году триста шестьдесят пять дней; два года — это семьсот тридцать дней, если случайно не попадется високосный год. Я улыбаюсь этой мысли. Что семьсот тридцать дней, что семьсот тридцать один — не все ли равно? Нет, не все равно! Дополнительный день — это дополнительных двадцать четыре часа. Сколько часов в семистах тридцати днях? Сумею ли подсчитать это в уме? Нет, это невозможно. Почему бы нет? Можно подсчитать. Сто дней — это две тысячи четыреста часов. Умножим на семь. Получается шестнадцать тысяч восемьсот, и еще тридцать дней умножим на двадцать четыре. Шестнадцать тысяч восемьсот и еще семьсот двадцать — это, если не ошибаюсь, семнадцать тысяч пятьсот двадцать часов.
Дорогой мой, Бабочка, вам придется убить семнадцать тысяч пятьсот двадцать часов в этой, предназначенной для диких зверей, клетке, с гладкими стенами. Сколько минут я должен здесь провести? Это не имеет значения. Часы — ладно, но минуты? Если так продолжать, то почему бы и не секунды? Все эти дни, часы, минуты мне надо заполнить самим собой!
Что-то с глухим шумом упало позади меня. Что это? Пытаюсь рассмотреть и с трудом различаю нечто длинное. Наклоняюсь, и это «нечто» начинает убегать от меня, пытается вскарабкаться на гладкую стену, но падает на пол. Даю ему возможность сделать три попытки, и когда «оно» в четвертый раз падает со стены, я давлю его ногой. Это что-то мягкое. Становлюсь на колени и, наконец, различаю: это огромная многоножка длиной в двадцать сантиметров и толщиной в два пальца. Меня охватывает чувство брезгливости, и я даже не поднимаю ее, чтобы бросить в унитаз, а запихиваю ногой под кушетку. Посмотрим завтра, днем! Я увижу еще немало многоножек. Они будут разгуливать по моему обнаженному телу, и мне представится прекрасная возможность почувствовать боль, которую причиняет это мерзкое животное. Укус его сопровождается высокой температурой, которая держится двенадцать дней, и сильной болью на протяжении шести дней.
Раз, два, три, четыре, пять… Абсолютная тишина. Неужели здесь никто не храпит? Никто не кашляет? В Санта-Марте нас каждый день заливало водой, нас жрали рачки и многоножки, но мы могли разговаривать, кричать, слушать пение и крики помешавшихся. Не то, что здесь. Будь у меня возможность выбора, я пошел бы в Санта-Марту. Ты говоришь глупости, Бабочка. Там никто не мог выдержать больше шести месяцев. Здесь же многие должны отсидеть пять, а иногда и больше лет. Но приговорить к этому — одно дело, а отсидеть — совсем другое. Сколько кончает самоубийством? Но как здесь покончить с собой? Впрочем, это возможно. Можно повеситься, хотя это и непросто. Из брюк делают веревку. Привязывают метлу к одному концу веревки, поднимаются на кушетку и перебрасывают второй конец через решетки. Надо прислониться к стене, над которой проходит дорожка стражи, и тогда надзиратель не заметит веревки. Как только он пройдет над тобой, надо прыгать. Он не поспешит спуститься в камеру, чтобы спасти тебя. Ведь написано же на двери: «Воспрещается открывать без указания свыше». Не волнуйся, тот, кто собирается повеситься, успеет это сделать до того, как придет «указание свыше» снять его.
Я описываю здесь вещи, которые не заинтересуют, возможно, читателя — любителя действия, борьбы и столкновения. При чтении они могут опустить ближайшие страницы. Я же считаю своей обязанностью как можно подробнее описать первые часы моего погребения.
Я шагаю уже очень много времени. Ночью слышу, когда сменяется стража. Первый охранник был высоким и худым, а второй — низкорослый и тучный. Он еле волочит ноги, и его шаги можно расслышать, когда он находится на расстоянии двух камер от моей. Завтра постараюсь определить время смены стражи и длительность каждой смены. Тогда смогу жить во времени: первая смена, вторая, третья и т. д.
Раз, два три, четыре, пять… Усталость позволяет мне легко пуститься в путешествие по прошлому. Я на берегу моря, с моим племенем, и солнце сияет вовсю. Лодка Лали покачивается на волнах. Зорайма приносит мне большую рыбину, поджаренную на углях и завернутую в банановый лист — чтобы не остыла. Я ем, конечно, руками, а она сидит, сложив ноги, и смотрит на меня. Ей доставляет удовольствие видеть, как я отрываю большие полоски рыбы и с аппетитом отправляю их в рот.
Без особых усилий я впадаю в гипноз во время своего безостановочного шагания и снова переживаю тот замечательный день.
Свет погас, и наступивший день осветил угол камеры, выгнав туман, который стелется у пола и окутывает меня. Свисток. Слышу удары кушеток по стене и звук крюка, который мой сосед вдевает в кольцо на стене. Мой сосед кашляет, я слышу журчание воды. Как здесь моются?
— Господин надзиратель, как здесь умываются?
— Заключенный, прощаю тебе твое незнание. Запрещается разговаривать с надзирателем, за это сурово наказывают. Чтобы умыться, тебе надо встать на унитаз и выливать воду из ведра одной рукой, а второй — умываться. Ты развернул свое одеяло?
— Нет.
— В нем ты найдешь льняное полотенце.
Запрещается разговаривать с надзирателями? В любом случае? А если страдают от какой-то болезни? А если умирают? От сердечного припадка, приступа аппендицита, астмы? Нельзя звать на помощь даже в случае смертельной опасности? Это неслыханно! А впрочем, нет, это естественно. Тогда будет слишком просто поднять шум, и наверняка те, кто сидит здесь, будут по двадцать раз в день устраивать скандалы.
Интересно, кому пришла в голову идея построить эти клетки. Психиатру вряд ли — врач не пал бы так низко. Архитектор и подрядчик, построившие это чудовище — хитрые психологи, полные садизма и ненависти к заключенным.
Из распределителя в Каннах, который находился два этажа под землей, мог вырваться голос пытаемого. Когда с нас сняли наручники, я видел страх в глазах тюремщиков. Здесь, на каторге, в месте, куда могут добраться только чиновники из управления, они спокойны. Здесь им ничего не грозит.
Клак, клак, клак… Открывают форточки. Я приближаюсь к своей, осторожно выглядываю в коридор, потом высовываю всю голову и вижу справа и слева от меня массу голов. Сосед справа, с бледным и жирным лицом идиота, смотрит на меня ничего не выражающим взглядом. Сосед слева быстро спрашивает меня: