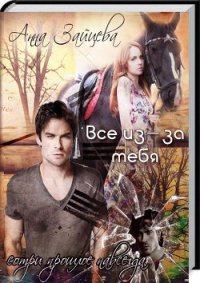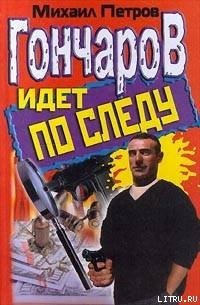Гончаров - Лощиц Юрий Михайлович (электронные книги без регистрации TXT) 📗
Иван Александрович не мог скрыть некоторой обиды:
— Меня не звали к обеду, я и не пришел.
— Я вас звал, — удивился хозяин квартиры. — Как же, я вас звал!
— Нет, — решительно заметил гость, — вы меня не звали!..
Произошла некоторая заминка, но тут вспомнили о чтении. Поскольку у автора все еще был бронхит, читать поручили Павлу Васильевичу Анненкову.
Итак, «Дворянское гнездо»… Событие отделено от нас более чем столетней давностью, и — нужно сделать над собой немалое усилие, чтобы постичь смысл переживаний, которые вечером 28 декабря и на следующий день, 29 декабря (роман слушался в два приема), обуревали Ивана Александровича Гончарова.
По ходу чтения он вдруг стал ловить себя на странной, почти нелепой мысли: то, что он сейчас слышит, ему уже известно…
Хотя бы этот тургеневский Лаврецкий… Да ведь это же… Райский из замышляемого им, Гончаровым, Художника! Безвольный и разочарованный, он так же приезжает в провинциальный город и затем в деревню, и так же появляются тут две сестры, и так же есть пространное описание предков Райского (то бишь Лаврецкого), и свидание ночью в саду, и объяснение бабушки с внучкой (то бишь тетки с племянницей)… Правда, в Лаврецком как будто нет ничего от дилетанта, но, впрочем, его дилетантизм передан другому персонажу — Паншину, который безуспешно ухаживает за религиозной Верой (то бишь Лизой)… Нет, наяву ли все это происходит? И если наяву, то что же все это такое? Теперь понятно, почему он, Гончаров, не был позван к обеду: авось и на чтение пе явится.
Гончаров не стал ждать, «когда напечатается». В тот же самый вечер, после того, как были произнесены все похвалы, выговорены все мнения и гости разошлись, он остался с Тургеневым один на один и попросил Ивана Сергеевича объяснить возникшее недоумение: в связи с чем только что прослушанный роман глядится причудливым слепком с Райского?
— Как, что, что вы говорите, — смутился Тургенев. — Неправда, нет! Я брошу в печку!
— Нет, не бросайте, — сказал Гончаров. — Я вам отдал это — я еще могу что-нибудь сделать. У меня много!
Так выглядит это тягостное объяснение в «Необыкновенной истории». Через двое суток — Новый год. Еще накануне оба писатели заглядывали в наступающий год с самыми лучшими надеждами: у одного вот-вот выйдет «Обломов», у другого «Дворянское гнездо». И вдруг предпраздничное волнение обернулось треволнениями совсем иного рода.
Легко было Гончарову в тот злополучный вечер бросить: «Я вам отдал это!» Но как «отдать», если Художник уже прикипел к нему, стал частью его существа? Нет, «отдавать» было невозможно. В одну из очередных встреч — а каждая из них неизбежно касалась теперь все той же темы очевидного для Гончарова заимствования — Иван Сергеевич согласился изъять из подготовленного к печатанию текста своего романа сцену с объяснением тетки и племянницы, которая действительно, как он признал, несколько перекликается с тем, что рассказывал ему в свое время Иван Александрович. Что ж, какие-то сходные мотивы и правда можно теперь усмотреть, но ведь все это случилось совершенно нечаянно, невольно. Видимо, объяснял Тургенев, эти мотивы почему-либо особенно запечатлелись, а затем по рассеянности усвоились его собственной художнической фантазией. Но чтобы он что-либо гончаровское включил в свой роман намеренно, сознательно, с умыслом, — нет, нет и нет!
Может быть, и так, рассуждал Иван Александрович, может быть, и так — и ненамеренно, и бессознательно, но ведь ему-то, Гончарову, от этого не легче, ему теперь придется вполне намеренно и сознательно исключать из своего романа всю главу о предках Райского, а то ведь, чего доброго, будущие критики и читатели придут к выводу, что глава эта сюда поступила прямиком из «Дворянского гнезда», да еще и намеренно и сознательно.
Словом, много вдруг объявилось хлопот и у того и у другого. В их отношениях в эти месяцы возникает тягостная двойственность. С внешней стороны все еще выглядит вполне благополучно: они встречаются на литературных обедах; оба участвуют в чествовании актера Мартынова; как цензор Гончаров одобряет к печати второе издание «Записок охотника». Но ближайшие приятели уже посвящены в тайну их конфликта. Гончаров начинает вслух раздражаться некоторыми личными свойствами Ивана Сергеевича, на которые прежде он смотрел сквозь пальцы. Так, в письме к Василию Боткину он сообщает не без сарказма: «Сегодня мы обедали у Тургенева и наелись ужасно по обыкновению. Вспоминали Вас и бранили, что Вы не здесь. Он все по княгиням да по графиням, то есть Тургенев: если не побывает в один вечер в трех, домах, то печален».
20 марта 1859 года Иван Сергеевич отбывал из Петербурга в Спасское. Гончаров приехал на вокзал проводить его. Даже и здесь, на перроне, до самого паровозного свистка, они, словно в каком-то колдовском оцепенении, продолжали препираться по поводу общих мест в двух, романах. Опять вспомнили предков Райского, старинные портреты в барском доме… На квартиру Иван Александрович вернулся с тяжелым сердцем. А вечером еще и с Анненковым был разговор. Странный все же человек этот Павел Васильевич. Когда покойный Гоголь жил в Риме, Анненков состоял при Гоголе — что-то там переписывал. А когда покойный Белинский собрался писать свое эпохальное письмо Гоголю, Анненков опять проявился, но теперь уже он состоял при Белинском. Нынче же любезнейший Павел Васильевич состоит при Тургеневе. При каждом удобном случае адвокатствует в пользу своего очередного кумира. В литературе, мол, но исключены совпадения отдельных мотивов и деталей, поскольку почва перед всеми одна и та же…
Почва-то одна, да каждый по-своему ее пашет. Та самая тема, на осмысление которой один затрачивает долгие годы кропотливого и напряженного подготовительного труда, другому дается с лету, с воздуха, и он норовит выразить ее несколькими изящными росчерками пера. «У меня есть упорство, — пишет Гончаров Тургеневу через неделю после расставания, — потому что я обречен труду давно, я моложе Вас тронут был жизнью и оттого затрагиваю ее глубже, оттого служу искусству, как запряженный вол, а Вы хотите добывать призы, как на course au clocher [6]».
Из этих слов нельзя не заметить, что дело, оказывается, уже не просто в плагиате, явном или мнимом. Тут заявляет о себе претензия иного рода и масштаба. Развивая свое откровенное сопоставление, Гончаров хочет убедить Тургенева в том, что тому вообще противопоказано писать крупные вещи — это вовсе не его жанр. «Скажу очень смелую вещь: сколько Вы не пишите еще повестей и драм, Вы не опередите Вашей «Илиады», Ваших «Записок охотника»: там нет ошибок; там Вы просты, высоки, классичны, там лежат перлы Вашей музы: рисунки и звуки во всем их блистательном совершенстве! А «Фауст», а «Дворянское гнездо», а «Ася» и т. д.? И там радужно горят Ваши линии и раздаются звуки. Зато остальное, зато создание — его нет, или оно скудно, призрачно, лишено крепкой связи и стройности, потому что для зодчества нужно упорство, спокойное, объективное обозревание и постоянный труд, терпение, а этого ничего нет в Вашем характере, следовательно и в таланте».
В этом суровом приговоре Тургеневу-романисту Гончаров не поколеблется никогда, даже и после того, как будут написаны и опубликованы все тургеневские романы. Не только не поколеблется, но, наоборот, еще более укрепится в правоте своего жесткого вывода.
Не зависть ли двигала в этих строках пером Гончарова? Вопрос вовсе не надуманный, если иметь в виду, что миф о «завидующем Гончарове» кулуарно оформлялся уже при его жизни, а в 20-х годах нынешнего века увидел свет и в академическом варианте — в исследовании Б. Энгельгардта «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев». Энгельгардт склонен был причину все возраставшего рас «хождения между писателями наводить не в самом факте проблематического плагиата, а в том, что, по его словам, на долю Гончарова «достается гораздо меньше успеха и оваций, нежели на долю «обаятельного» Ивана Сергеевича». В такой трактовке и впрямь можно усмотреть «сальеризм» Гончарова.