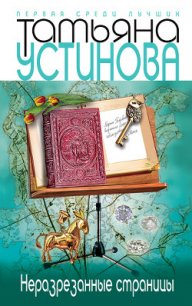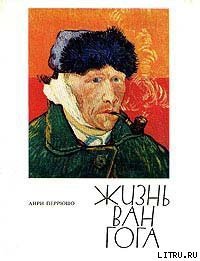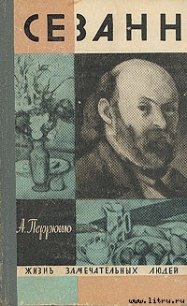Эдуард Мане - Перрюшо Анри (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные txt) 📗
Мане защищает своих друзей; в его мастерской всегда есть их работы — когда к нему наведываются любители, он горячо отстаивает их. «Да поглядите же на этого Дега, на этого Ренуара! Поглядите на этого Моне. Мои друзья — настоящие таланты!» Он лучше, чем кто-либо, знает о бедности некоторых, особенно Клода Моне — тот не перестает обращаться к нему с денежными просьбами: «Мне становится все труднее. С позавчерашнего дня у меня нет ни гроша, нет больше кредита у мясника, у булочника... Не могли бы Вы послать обратной почтой бумажку в 25 франков?» «Я так удручен. Вернувшись вчера вечером, я нашел жену тяжело заболевшей... Если бы Вы могли еще раз прийти мне на помощь; умоляю Вас не оставлять меня...» Мане никогда не оставался безразличным к этим призывам. Но, оказывая помощь, он отнюдь не намерен присоединяться к импрессионистам, отклоняться от собственного пути. Дюранти, пишущий сейчас брошюру об искусстве этой группы — «Новая живопись», тщетно уговаривает его быть там, где водрузят его же собственное «знамя». «Я никогда не стану выставляться на задворках; я вступаю в Салон через главный вход», — отвечает Мане.
К тому же многие участники первой выставки (например Бракмон, Закари Астрюк или Де Ниттис — ему, кстати, пообещали орден Почетного легиона) обожглись тогда на дурном приеме и больше экспонироваться не желают. Даже Сезанн предпочитает не рисковать в Салоне. А вот Легро и Дебутен, напротив, примыкают к импрессионистам.
Верный Салону Мане почти не колеблется, выбирая картины для экспозиции. Он пошлет во Дворец промышленности, во-первых, «Стирку», во-вторых, портрет Дебутена, полотно, названное им «Художник». Это своеобразный способ взаимно удовлетворить и приверженцев пленэрной живописи, и сторонников более традиционных приемов.
Неплохой выбор — впрочем, скорее инстинктивный, нежели продуманный, — но так ли он хорош, чтобы расположить жюри к художнику? Представителей академического толка «Стирка» должна неминуемо разъярить. Жюри ждет от Мане как раз отречения от ереси. Именно теперь, когда шайка «мазилок», которой он покровительствует, все сильнее заставляет говорить о себе, когда критики мало-помалу поддаются его заблуждениям, его фиглярству, более того — заблуждениям и фиглярству его последователей, именно теперь жюри менее, чем прежде, склонно терпеть выходки Мане. И еще слишком уж все заняты — так или иначе — г-ном Мане. Чересчур. В том, что его имя склоняется по любому поводу, есть что-то просто неприличное, какое-то очковтирательство. Мане готовы поставить в вину даже успех его «Кружки пива» — ведь он и впрямь был чрезмерным. Пора ему покориться, что называется, вернуться в строй! «Хватит. Мы предоставили г-ну Мане десять лет для исправления. Он не исправляется. Напротив, усугубляет свои ошибки. Отклонить!» — злобно бросает один из членов жюри. Все или почти все присоединяются к нему. Опираясь на мнение возмущенной «Аржантейем» публики, жюри почти единогласно (исключая два голоса) отстраняет картины Мане.
Мане узнал об этом в начале апреля, в тот самый момент, когда на улице Лепелетье открывается выставка импрессионистов. Но он слишком привык к ударам, чтобы переживать их по-прежнему сильно и глубоко. Некоторая нервозность, несколько горьких острот — вот и все. «Не пора ли прикончить этого старикашку, который стоит одной ногой в могиле, а другой — в сиенской земле? 225 — ядовито говорит он о председателе жюри Робере-Флери. Импрессионисты, естественно, настаивают, чтобы он присоединился к ним. Сделать это еще не поздно. Но Мане не уступает; а ужасная статья Альбера Вольфа, опубликованная 3 апреля в «Le Figaro», по адресу «помешанных» с улицы Лепелетье, тем более укрепляет его убеждения. Что ж, раз жюри не захотело принять обе его картины, он покажет их у себя в мастерской — так-то! «Писать правдиво, не обращать внимания на толки» — вот девиз, написанный им на пригласительном билете.
Мане, разумеется, не подозревает, какой шум вызовет эта выставка. За две недели, то есть с 15 апреля по 1 мая, через его мастерскую прошло более 4 тысяч человек. Они хвалят или критикуют, они громко говорят, жестикулируют, спорят. Иногда у двери дома на улице С.-Петербург выстраивается длинная очередь. Шум, который производят посетители с самого утра до позднего вечера, нарушает привычную тишину этого мирного дома. Жильцы жалуются, пишут бесконечные письма домовладельцу — пора наконец пресечь невыносимый гам на первом этаже. «Эксперимент г-на Мане, — не без юмора пишет „La Petite Presse“, — ввел новый пункт в кодекс привратников. Прежде они спрашивали у желающих снять квартиру: „У вас есть собаки, кошки, птицы, дети? Не занимаетесь ли вы каким-нибудь шумным ремеслом? После истории с Мане они вас спросят: «Мсье, не устраиваете ли вы частных выставок?“
В газетах тот же шум. Мане фигурирует на страницах художественной хроники вместе с импрессионистами. Недоброжелатели иронически осведомляются: «Отчего бы ему и не облагодетельствовать этими двумя картинами выставку своих собратьев и друзей?», «Зачем же держаться в стороне от „банды“? Экая неблагодарность». Но в целом пресса скорее к нему расположена. Решение жюри находят неумным, даже абсурдным; оно не могло не послужить художнику наилучшим образом. «Имя Мане на устах у всех, — пишет „Le Figaro“. — Провал картин... сделал его личностью преследуемой, а толпа почти готова обнаружить наконец у него талант». «Г-н Мане, — прямо заявляет Кастаньяри, — относится к тем художникам, кого не отвергают... В современном искусстве он занимает место куда более значительное, чем, например, г-н Бугро, которого я вижу среди членов жюри. О созданных Мане картинах будут помнить куда как дольше, чем о „Дервише, стоящем у двери мечети“ г-на Жерома, и хотя г-н Жером не является членом жюри, он вполне созрел, чтобы им стать...» Надеясь навредить Мане, жюри выставило себя на посмешище.
Если не считать препирательств с хозяином дома, поносившим художника на чем свет, Мане мог бы быть вполне удовлетворен результатами выставки. В воскресенье, в день открытия Салона, он оказывается «самым заметным, наиболее привлекающим внимание» посетителем Дворца промышленности. Когда он уходит — а в этот момент дождь льет как из ведра, и поэтому в вестибюле возле касс полным-полно народу — кому охота попасть в этот потоп! — то неожиданно среди всей этой сутолоки разносятся его довольно громко произнесенные слова: «Вот лишнее свидетельство того, что выйти из Салона так же трудно, как и войти в него».
Нет, это не фраза побежденного, да и тон, каким она произнесена, совсем иной.
Оставаясь в мастерской, Мане время от времени хоронился за занавесом в лоджии и прислушивался к разговорам посетителей его выставки.
Однажды он услышал приятный женский голос, воскликнувший при виде «Стирки»: «Но ведь это же очень хорошо!» Мане был так тронут этим непосредственным восхищением, отключившим его от издевательских насмешек 226, что глаза его увлажнились от радости и он, будучи не в силах оставаться в своем убежище, бросился благодарить незнакомку: «Мадам, кто вы и почему находите хорошим то, что все считают плохим?» О счастье! Перед ним красивейшая из женщин, Мери Лоран, возлюбленная одного американца, знаменитого доктора Томаса В. Эванса. Эванс был прежде придворным дантистом Наполеона III.
Высокая, пышнотелая, голубоглазая, с белокурыми, отливающими медью волосами, Мери была одной из тех прославленных кокоток, каких немало встречалось в ту эпоху. Она родилась в 1849 году в Нанси, в пятнадцать лет вышла замуж за бакалейщика, рассталась с ним через несколько месяцев, дебютировала в качестве статистки в каких-то легкомысленных ревю и феериях с раздеванием. Однажды в кульминационной сцене такой феерии она предстала на сцене Шатле в сиянии своей наготы, «засверкавшей на фоне створок серебристой раковины» 227. Поначалу этой Венерой заинтересовался маршал Канробер, а затем доктор Эванс, который незадолго до падения Второй империи взял ее на содержание. Она была к нему по-своему очень привязана, ибо была добра и не могла не испытывать признательности за спокойный и роскошный образ жизни, обеспечиваемый ей Эвансом пятьюдесятью тысячами франков ежегодной ренты. Оставить его? «Было бы дурно так поступить. Хватит того, что я его обманываю», — лукаво произносила Мери. В этом отношении Эванс играл роль покладистого Сганареля.
225
Намек на коричневую краску. — Прим. пер.
226
На столе у входа Мане положил небольшую тетрадь для записи отзывов посетителей. Она пестрит уничижительными фразами: «Вот когда белье будет постирано, мы на него и поглядим», «Загляните в этот хаммам — тут можно принять душ. Цена — 1 франк 75 сантимов», «Не смешно», «Самое красивое на выставке Мане — это его мастерская (подпись — архитектор) », «Manet non manebit» (Мане не останется самим собой)...
227
По словам Альбера Фламана.