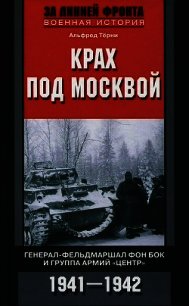Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское Освободительное Движение - Штрик-Штрикфельдт Вильфрид Карлович
Я не забуду встречи с этим благородно мыслящим американским офицером.
Снайдер обещал подробно информировать свое начальство. Он нас не обнадеживал. Снайдер был солдатом. Он обещал, если удастся, в ближайшие дни посетить мою жену и передать ей письмо от меня, а также сказать, что я был в его штабе живым и здоровым. Он сдержал свое слово. Его известие было единственным подтверждением того, что я жив, которое получила жена за восемь долгих месяцев.
Наутро нас, снова с завязанными глазами, посадили в джип. Я поражался, как генерал Малышкин во время поездки чувствовал направление: на восток, теперь опять на север… Несмотря на повязку на глазах, он – русское дитя природы – ориентировался по солнцу.
В пути нас почему-то разделили и повезли в разных машинах. Что бы это значило?
Когда мы остановились, меня повели наверх по длинной лестнице и лишь потом сняли повязку с глаз. Я был в большой светлой комнате, с окнами в сад. Вскоре в комнату ввели и Малышкина. Мы не знали, где мы находились.
Почти сразу нас провели в другую большую комнату, где нас принял генерал Пэтч, командующий 7-ой американской армией. Рядом с ним стоял сравнительно молодой человек в американской офицерской форме; он приветствовал нас по-русски и сказал, что он сын бывшего царского генерала Артамонова. – Кто это генерал Власов? Как попали русские дивизии в Баварские Альпы? Чего вы хотите? – были первые вопросы американца.
Хотя было видно, что Пэтч уже знает от Снайдера (или его начальника) о нашей миссии, он не пожалел времени, чтобы внимательно выслушать Малышкина. Малышкин превзошел сам себя. В сжатой форме он рассказал о борьбе русского народа за свободу – против сталинской тирании. Он рассказал о русских добровольцах, боровшихся на немецкой стороне, но не за немцев, а против Сталина, причем уже в то время, когда Америка еще не вступала в войну. Он рассказал о Власове, поставившем своей задачей помешать использованию русских добровольцев в качестве наемных войск на службе Третьему рейху, и о том, как Власов старался придать смысл их борьбе.
– Вы говорите, что ваши добровольцы боролись только против Сталина и не немецкие наемники. А как же это мы во Франции встречали так много русских в немецкой форме? – спросил Пэтч.
Этим вопросом Пэтч впервые прервал Малышкина. И как раз именно это было самое уязвимое место. Как мог американец, как мог вообще разумный человек понять, что Гитлер отверг своих естественных союзников против Сталина, что эти антисталинские добровольцы против своей воли попали в германские наемники, а потом были брошены в бой на западном фронте.
Малышкин сделал всё от него зависящее, но, казалось, в этом пункте генерал Пэтч не принимал никаких объяснений.
– Позвольте, – сказал он, – но многие русские действительно ожесточенно сражались на немецкой стороне, против нас.
– С этими «хиви», как их называли немцы, Власов не имел никаких отношений, – ответил Малышкин. – И они никогда не были ему подчинены. А если они хорошо дрались, то лишь потому, что русские всегда были хорошими солдатами.
– Вы утверждаете, что их заставили воевать против американцев. Хорошо. Но против Сталина они шли драться добровольно. А Сталин и русские, в конце концов, наши союзники.
– Мы – ваши союзники, генерал Пэтч, а не те. Мы ведь те же русские. Власов – один из тех русских генералов и героев Красной армии, что защитили Москву от немецкого наступления и нанесли немцам их первое тяжелое поражение. Мы БСС – русские и бывшие красноармейцы. Но мы встали на сторону свободы. А что означает свобода, вы, генерал Пэтч, как американец, знаете много лучше, чем я.
Малышкин говорил убедительно и страстно. По выражению его лица и по его жестикуляции видно было, насколько сильно он переживал трагическую судьбу своего народа и своих солдат. То, что я пишу, – лишь бледное отражение его страстной речи. Перевод полковника Артамонова на английский был превосходен; видно было, что он внутренне сочувствовал Малышкину. Пэтча тоже явно захватило.
– Продолжайте, пожалуйста, продолжайте, – подбодрил он Малышкина, когда тот остановился.
(Надо думать, что у Пэтча были и более срочные дела, чем слушать Малышкина.)
Малышкин обратился к прошлому. Он рассказал о большевистском перевороте 1917 года в Петрограде о разгоне Учредительного Собрания меньшинством – большевиками, о гражданской войне, в которой англичане, французы и американцы поддерживали белые армии против большевистских узурпаторов, о восстании кронштадтских матросов, об ужасах коллективизации, и заключил словами:
– Ваши соотечественники уже были, значит, однажды союзниками русских антибольшевиков, генерал! То есть – нашими союзниками! А теперь мы вас просим не о военной поддержке, а всего лишь о праве убежища. Америка же – оплот свободы!
Пэтч подумал и сказал:
– К сожалению, проблема эта совершенно вне моей компетенции как армейского генерала. Но я обещаю вам тотчас же направить вашу просьбу генералу Эйзенхауэру. Я охотно постараюсь сделать всё, что смогу! Благодарю вас.
Когда мы простились с Пэтчем, я смог еще коротко поговорить с Артамоновым. Видно, он занимал в штабе Пэтча такое же, примерно, положение, как я в свое время у Бока. Очень сжато я обрисовал свои тогдашние и нынешние задачи и просил Артамонова выступить перед американцами в пользу своих русских земляков, как я делал это раньше перед немцами. Очевидно, по служебным мотивам, он не имел права ответить мне на это. Он упомянул лишь, что учился в Пажеском корпусе в Петербурге и сказал, что попытается сделать всё от него зависящее. Но вдруг мною овладел страх: а что, если Артамонов вовсе не американский полковник, а советский наблюдатель. Я назвал имя одного знакомого мне пажа, который мог бы быть его однолеткой. Артамонов его не знал. Мое недоверие росло. Язык Артамонова, его манера держать себя и весь облик говорили за то, что он не лгал. Но страх мой не исчез.
Лишь летом 1967 года я смог мысленно попросить у него прощения, когда узнал, что он отыскал и посетил в Германии своих немецко-балтийских родственников.
Когда на следующий день меня вели через залу, я был свидетелем, как два американских офицера кричали на седого господина. Тот стоял с достоинством и говорил американцам категорическим тоном, что не будет отвечать на поставленный ему вопрос и что они должны запомнить это раз и навсегда.
Американцы орали и угрожали. Но старик сохранял спокойствие барина. Сопровождавший меня сказал, когда мы прошли мимо, что это адмирал Хорти, бывший регент Венгерского королевства.
Находясь под впечатлением этого, мы особенно оценили рыцарское отношение генерала Пэтча, когда он принял нас во второй раз. Он сообщил нам, что, поскольку наше дело – политическое, генерал Эйзенхауэр должен запросить Вашингтон. Это, конечно, займет время; нельзя сказать, когда придет решение. Поэтому его предложение: никакого дальнейшего бессмысленного кровопролития. («Это означает, – подумал я, – что здесь, на Западе, жизнь человеческая еще чего-то стоит».) Русские дивизии должны тотчас же сложить оружие. Пэтч добавил, что с ними будут обращаться, как с немецкими военнопленными.
Я сразу насторожился:
– Значит ли это, господин генерал, что с русскими будут обращаться по правилам, установленным Женевской конвенцией?
– Почему этот вопрос? – лаконично бросил Пэтч.
– Потому что я после первой мировой войны работал при делегации Международного Комитета Красного Креста в Женеве, потому что Гитлер игнорировал при походе на восток Женевскую конвенцию и потому что я знаю, что это означает.
– Я могу лишь повторить и подчеркнуть, – медленно сказал генерал, – по действующим для немецких военнопленных правилам.
Что это значило? Не имел он права говорить яснее? Может быть, американцы также решили игнорировать положения ими принятой Женевской конвенции? Но тогда это означало отказ от права убежища, а может быть, и выдачу добровольцев Советам. Я содрогнулся.
Такова, значит, расплата за то, что Гитлер нарушил Женевскую конвенцию!