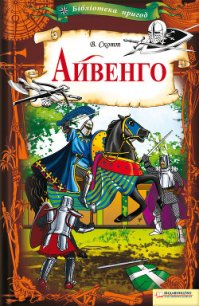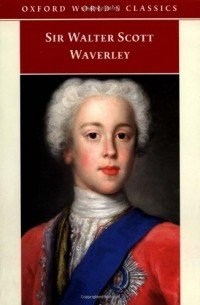Вальтер Скотт - Пирсон Хескет (книги читать бесплатно без регистрации .TXT) 📗
На общественное выступление Скотта могло толкнуть лишь одно — посягательство на свободу родного края; он и свои письма по вопросу о денежной реформе набросал из чисто патриотического рвения. Письма наделали много шума. Защищая себя, несколько министров обрушились в парламенте на Скотта. Министр по делам Шотландии лорд Мелвилл был в бешенстве, Каннинг выразил сильнейшее недовольство. Но «Письма Малахии Мэлегроутера» добились своей цели. Правительство отказалось от намерения запретить выпуск шотландских банкнотов, а Скотт утешался мыслью о том, что впредь «никто не посмеет говорить обо мне как о лице, достойном жалости, — конец всем этим „бедняжечкам“!». Человек гордый, он не любил просить о милостях или принимать таковые. Он мог призанять 280 фунтов — снарядить племянника в Индию и оплатить ему плаванье до Бомбея («не могу же я допустить, чтобы сирота да еще такой умный парнишка потерпел неудачу из-за моей нерасторопности»), но воспретил друзьям просить для него место судьи в Высшем суде, хотя это освободило бы его от обязанностей секретаря и шерифа.
Последние дни на Замковой улице он ходил подавленный, мучаясь чувством «непонятной привязанности даже к бесчувственным предметам, которые столько лет служили нам верой и правдой». Вид сваленной в кучу мебели, картин, утвари и всего остального наталкивал на безотрадные думы: «Покидать дом, который мы так долго называли своим гнездом, в общем, довольно-таки грустно... Я принялся разбирать бумаги и упаковывать их для переезда. Что за странные путаные мысли порождает это занятие! Вот письма — когда я их получал, сердце замирало в груди. Теперь от них веет скукой и тленом... Памятки о друзьях и недругах — и те, и другие равно позабыты». В письмах и дневниковых записях этих дней он несколько раз путает номер дома: 93 вместо 39. К счастью, его дворецкий относился к цифрам с большим вниманием; Даглиш констатирует, что из подвала на Замковой улице в подвал Абботсфорда было перевезено бутылок вина — 350 дюжин, бутылок крепких напитков — 36 дюжин. Внушительное это количество дает представление о размахе гостеприимства Скотта, а также намекает, вероятно, и на немалый объем горячительного, который его друзья были в состоянии поглотить.
15 марта 1826 года Скотт в последний раз закрыл за собою двери своего эдинбургского дома и до конца жизни уже не появлялся на Замковой улице, если мог обойти ее стороной. «Вполне понятные, хоть и неприятные чувства, охватившие меня при выселении, — в сущности, это было самое настоящее выселение, — без труда развеялись во время поездки». В Абботсфорде слуги и псы встретили его шумом и гамом — все были рады возвращению хозяина.
Глава 21
В поисках правды
Теперь даже в сельском уединении жизнью Скотта распоряжалась работа. До этого литературные занятия были для него своего рода увлечением, и он мог в любую минуту их оставить, чтобы забыть о трудах в приятной беседе или забавах на свежем воздухе. Но характер исторических разысканий, как и необходимость платить долги, обязывали его проводить за рабочим столом определенное количество времени. Он вставал в семь утра, работал до половины десятого и завтракал в обществе Анны: жена появлялась из спальни только к полудню. После завтрака работал примерно от десяти до часу. Затем три часа ездил верхом или прогуливался по лесопосадкам с Томом Парди. Потом беседовал с женой и дочерью, съедал легкий обед, выкуривал сигару за бокалом разведенного виски, иногда просматривал какой-нибудь роман, пил чай, снова болтал с родными, работал от семи до десяти, выпивал стакан портера с ломтиком хлеба и отходил ко сну. Ему требовалось не менее семи часов сна, и если он недосыпал, то выкраивал, чтобы вздремнуть, пару часиков днем. Полчаса между пробуждением и вставанием всю жизнь были для него творческим промежутком: в это время его посещали идеи, как лучше справиться с очередным романом, особенно если не давались сюжет или действие. Но, работая над «Жизнью Наполеона», он не мог полагаться на подобные минуты наития — тут каждая глава требовала беспрестанных исследований и кропотливого труда. «По-моему, читается одним духом и станет популярным историческим сочинением», — заметил он о Введении, посвященном Великой французской революции. Однажды Локхарт критически отозвался о стиле его статей для «Квартального обозрения». Скотт поблагодарил зятя, но задал вопрос: «Что вы хотите от несчастного, который в прямом смысле слова никогда не учился читать, а уж тем более — писать сочинения?» Самоуничижение писателя странным образом противоречило в нем гордости человека. Он говорил, что является «смиреннейшим писателем господа, если только все это племя не относится к юрисдикции дьявола», и не претендует на то, чтобы «Квартальное обозрение» платило ему больше, нежели любому другому из своих известных сотрудников.
Мучаясь над работой, он с горем следил за ухудшением здоровья жены, которому немало способствовало ухудшение семейного благосостояния. Шарлотта страдала от грудной водянки, и средство, что ей прописали, — наперстянка — казалось Скотту страшнее недуга. Его тревожило, что она не прилагала к выздоровлению решительно никаких усилий; по его убеждению, ей был бы очень полезен моцион. Шарлотта не любила распространяться о своей болезни и все время твердила, что ей становится лучше. 11 мая, собираясь в Эдинбург по судебным делам, Скотт заглянул к ней в спальню. Приподнявшись с подушек, она попыталась изобразить улыбку и сказала: «У вас у всех такие унылые лица». Перед самым отъездом Скотт зашел к ней попрощаться, но она сладко спала, и ему не захотелось ее будить. Четыре дня спустя ее не стало. Скотт немедленно вернулся в Абботсфорд. Ему пришлось порядком повозиться с Анной, которая то и дело билась в истерике и падала в обморок, но это, возможно, было и к лучшему. «А как я себя чувствую — сказать трудно. То крепким, как прибрежный утес, то слабым, как волна, что о него разбивается». Скотт находился в каком-то оцепенении и отстраненности, как то бывает при великом несчастье. Морриту он писал: «Мирские заботы, о коих Вы поминаете, — ничто перед этой чудовищной и непоправимой бедой». Он знал, что больше у него не будет подруги, которой он поверял бы свои думы и чувства и которая «всегда могла развеять зловещие опасения, способные надорвать сердце тому, кто вынужден терзаться ими в одиночестве. Даже ее слабости шли мне на пользу, отвлекая от надоедливых размышлений о собственной персоне.
Я видел тело. Облик, что я узрел, был похож — и не похож на мою Шарлотту, подругу трех десятков лет. Фигура сохранила все те же пропорции, хотя прежде такие гибкие и грациозные линии теперь застыли в смерти, — но эта желтая маска с заострившимися чертами, которая, мнится, уже и не подражает жизни, но издевается над нею, — разве это — лицо, прежде исполненное такой живой выразительности? Нет, я больше не взгляну на эту маску...
Но не моя Шарлотта, не невеста моей юности и мать моих детей будет покоиться в развалинах Драйбурга, где мы провели с нею столько радостных и безмятежных минут. Нет и нет! Где-то и как-то она ощущает и понимает, что я чувствую. Нам не дано знать где, нам не дано знать как — и все же в этот час я не отрину ради всего, что способен предложить мне этот мир, — не отрину непостижимой и, однако, твердой надежды встретиться с ней в лучшем мире...»
Вальтер и Чарльз успели к похоронам, состоявшимся 22 мая. Шарлотту предали земле среди развалин Драйбурга, где предстояло упокоиться и телу ее мужа. «Я словно оцепенел в каком-то тумане, и все, что делается и говорится вокруг, кажется мне нереальным», — записал Скотт накануне похорон. Ощущение нереальности происходящего оставалось с ним на протяжении всего обряда. Его немного утешил приезд сыновей, и Анна, оправившись после удара, оказалась настоящей ему опорой. «Я подчас порицал ее за налет модного равнодушия», — писал Скотт, но «под этой манерой поведения» ее отец обнаружил высокоразвитое чувство долга и довольно сильный характер. Однако за письменным столом на него наваливалось одиночество заброшенности: «Вот когда я понял, что остался совсем один, — бедняжка Шарлотта успела бы раз десять заглянуть в кабинет проверить, горит ли камин, и раз сто спросить, не нужно ли мне чего. Увы — этому пришел конец — и если нельзя забыть, то нужно помнить и терпеть». Старший сын возвратился в Ирландию, а 29 мая Чарльз с отцом приехали в Эдинбург, откуда первому предстояло отплыть в Лондон. «Печальный нынче выдался день, весьма печальный, — исповедовался Скотт „Дневнику“ 30 мая. — Боюсь, мой бедный Чарльз видел мои слезы — не знаю, как у других, а у меня истерическое состояние, которое заставляет людей плакать, проявляется с чудовищной силой — горло так перехватывает, что нечем дышать, — а затем я погружаюсь в полусон и спрашиваю себя, может ли быть такое, что моя бедная Шарлотта и вправду умерла. Мне кажется, я начинаю переживать утрату сильнее, чем при первом ударе».