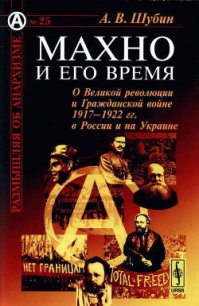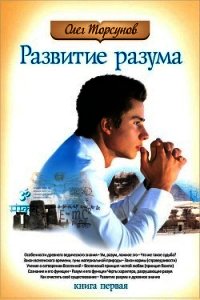Два побега<br/>(Из воспоминаний анархиста 1906-9 гг.) - Аршинов Петр Андреевич (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
Мы подошли к моменту своего настоящего положения Умирать нам не хотелось. Видели мы, что крайне мало сделали для революции и что лишь в будущем мы могли развить свои силы и свою деятельность. Жалко было этого будущего, которое обещало нам быть таким богатым упорною борьбою и событиями. Акт, за который мы умирали, все же согревал нас. Я сознавал, что он возбудит энергию сотен рабочих, подымет их волю, закалит на дальнейшую борьбу. Это облегчало тяжесть последних минут. Состояние духа было твердое. — «Ну, Петр, — говорил Бабешко, — будем до конца непоколебимыми. В последнюю минуту подадим друг другу руки и вскрикнем, — да здравствует анархия!» Мы так и условились.
Между часом и двумя ночи в нашу камеру быстро вошел Кривоноженко в сопровождении нескольких стражников и устремился прямо ко мне. «Это ты» — сказал он, усиленно всматриваясь в мое лицо (Кривоноженко знал нашу семью, еще когда был семинаристом и затем после, когда босяковал. Очевидно, он прочел адресованное моей матери письмо). Я кивнул ему головой. — «Что же ты раньше не сказал, я бы что-нибудь сделал для тебя, а теперь ничего не поделаешь!» Я насмешливо посмотрел на него. Он стоял взволнованный и не сводил с меня глаз, потом повернулся и вышел. Мы пробыли еще с час-полтора сами.
Около трех часов ночи нас оповестили, чтобы мы были готовы. Затем, минут через десять, вывели на двор, весь запруженный полицией. Нас оцепила рота солдат-пехотинцев, а спереди, по бокам и сзади окружили конные стражники. Под таким конвоем нас повели. Куда? Конечно, на казнь. Бабешко воспользовался близостью солдат и завел с ними разговор. Он говорил о революционной борьбе рабочих, о цели этой борьбы, за что мы боролись и за что погибшем. Солдаты шли, прислушивались, но ни единым словом не отвечали.
Шли мы долго. Прошли весь город и вышли за город, в поле. «Значит, будут в поле вешать» — сказал я Бабешко и стал всматриваться вдаль. В каждом приближавшемся навстречу кусте или телеграфном столбе чудились виселицы, но их все не было. Наконец, перед нами стали вырисовываться контуры большого здания, в котором Бабешко узнал александровскую уездную тюрьму. Действительно, нас привели в тюрьму. Стало быть, казнь над нами совершат в тюрьме. Нам это стало столь очевидно, что мы ругнули себя, как это сразу не догадались. Не в участке и не в поле, а именно в тюрьме совершают казни, особенно через повешение. Мы со своим конвоем стояли у ворот тюрьмы, а начальство тем временем долго переговаривалось внутри двора. Прошло добрых 33–40 минут, а нас все не вводили в тюрьму. Очевидно не закончены приготовления для повешения. Со двора к решетчатым воротам подошел тюремный надзиратель и стал против нас. Бабешко сейчас же ему вопрос — «Чего же нас не вешают? Ну что, высокие виселицы поставили?» — Надзиратель ядовито посмотрел на него, потом бросил: — «У нас не вешают» — и отошел в сторону. Стукнули, наконец, засовы и замки, ворота раскрылись и нас ввели в тюремный двор. Конвой остался по ту сторону, а нас уже подхватили надзиратели. Мы стали озираться кругом, ища виселицы. Их не было видно. Вот нас подвели к каменному корпусу и приказали подниматься вверх по лестнице. Мы поднялись и попали в полутемный коридор. Я стал ожидать, что сейчас нас неожиданно схватят и будут тут где-нибудь вешать. Для меня это было столь несомненно, что я мысленно перенесся в тот мир, где кончается жизнь. Я рассуждал сам с собою, что вот сейчас я в него перейду. Как же, все таки, произойдет этот переход? Нас подвели к одной двери и стали ее открывать. Последний этап и последнее мгновение. Очевидно, в этой камере и стоят все приспособления для повешения. Дверь открылась, и нас втолкнули в камеру. В ней был свет, и я сразу заметил отсутствие орудий повешения. Наоборот, в дальнем углу стояли нары, с которых начали подыматься удивленные человеческие головы. Приподнялось несколько голов и из другого места, прямо с пола. Мы поняли, что нас посадили в камеру с другими арестованными. Мы подошли к ним: «Здравствуйте, товарищи». — Здравствуйте, — ответили нам. Все с любопытством поднялись на нары. Мы рассказали о себе. Оказывается, они уже слыхали и про наш акт и про наше осуждение. Начали ломать головы, что бы это значило, что нас посадили сюда, а не казнили сразу. Может быть, утром возьмут на казнь? Наши соседи отрицательно покачали головой. — «Тогда бы вас сюда не приводили, — сказали они. — Скорее всего, либо казнь заменена каторгой, либо вас повезут в Екатеринослав, так как это пересыльная камера». Долго искали решения загадки, но так ни к чему и не пришли. Разговор перешел на другие темы, на порядки в тюрьме, на возможность побегов и др. Я почувствовал сильную усталость во всем теле и боль в голове. Примостившись на полу, я быстро заснул крепким сном, после трех суток почти бессонного состояния.
Через несколько часов меня разбудил шум человеческих голосов и звон кандалов. Я услыхал голос хохочущего Бабешко: «Петро, вставай, тянет на хлеб». Я не понял в чем дело. Оказывается, Бабешко весь остаток ночи провел в разговоре с новыми товарищами, а под утро эти товарищи научили его, как узнать нашу дальнейшую судьбу. Они клали на пол, недалеко друг от друга, камешек и кусочек хлеба. Подвешивали к нитке небольшой груз и заставляли его качаться между камешком и хлебом. Если груз тянуло больше к камню, го это означало худой конец; если тянуло к хлебу — хороший конец. В отношении нас груз настойчиво качался в сторону хлеба. Этот наивный способ узнать свою судьбу искренно рассмешил Бабешко и он весело и громко хохотал.
В камере нашей находилось человек двенадцать. Все они были уголовные. Среди них были рецидивисты, были «обратники» (бежавшие из Сибири), были такие, которым за вооруженное ограбление предстоял военный суд. Большинство были закованы в ножные кандалы. Все были в арестантском платье. Нам тоже бросили арестантское платье, оставив лишь нашу обувь. Через несколько часов вся тюрьма уже знала о нашем пребывании. На прогулку нас выпустили вместе с нашими сокамерниками. Прогулка производилась во дворе, из которого через решетчатые ворота видна была «воля». Того же дня мы получили от ряда неизвестных заключенных знаки сочувствия. Режим в тюрьме был относительно свободный, через арестантов, работающих в коридоре, камеры сносились друг с другом, обменивались новостями, обделывали мелкие тюремные дела.
Мысль, которая поглотила меня и Бабешко с первого дня, была мысль о побеге. Мы находились в положении абсолютной неизвестности за свою ближайшую судьбу. Мы получили (неизвестно в силу какой причины) день-два отсрочки своей казни. Но где гарантия, что нас не казнят сегодня ночью или через несколько дней? Тюремная администрация, у которой мы пытались узнать что либо по этому поводу, отнекивалась незнанием. Приехали с Амура родные ко мне и Бабешко.
На свидании они передали нам, что по распоряжению высших властей смертная казнь была приостановлена. Приостановлена, но не отменена. Словом, надо действовать, действовать и действовать.
Из сидящих в нашей камере заключенных мы остановили свое внимание на одном — Слепцове. Это был статный, красивый парень лет 27–28. Он уже имел приговор в 20 лет каторжных работ за уголовные ограбления и ему предстояло идти в Екатеринослав судиться по ряду других аналогичных дел. В камере он пользовался всеобщим признанием товарищей, однако признанием своеобразным; он считался наиболее смелым, наиболее прожженным каторжанином, не имеющим чего терять.
В тюрьме он держался, как у себя дома. Со всеми заключенными имел немедленную связь через коридорных С администрацией вел себя непринужденно, часто ругался, но с некоторыми надзирателями имел какую то конспиративную связь. Вечерами он простаивал часы у волчка, ведя тихую беседу с дежурным надзирателем. Этому Слепцову мы и решили доверить свою мысль о побеге.
Он отнесся к ней весьма положительно. Нам он сообщил, что уже некоторое время подготовляет свой побег и что вот уже в течении двух-трех недель обрабатывает для этого надзирателя.