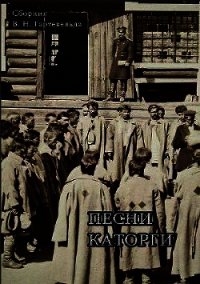Юлия Данзас. От императорского двора до красной каторги - Нике Мишель (бесплатная библиотека электронных книг TXT, FB2) 📗
Юлия Данзас привносит своим многогранным – и остающимся практически неизвестным до сих пор творчеством – знания, размышления и опыт, которые и по сей день не утратили своей важности и актуальности. Остается лишь надеяться, что отныне ссылки на ее жизненный путь и творчество будут естественным образом приходить на ум всем, кто размышляет о русской истории и духовности.
Тексты представлены здесь не в хронологическом, а в тематическом порядке: «Исповеди и воспоминания», «История христианства в России», «Российский двор и Распутин».
I. ИСПОВЕДИ И ВОСПОМИНАНИЯ
Кто я [1]
Эта исповедь стала продолжением автобиографии, помещенной в начале первых шести глав первой части этой книги. Датированная 20 марта 1934 г., то есть написанная где-то через три недели после прибытия Юлии Данзас в Берлин и спустя почти два года после ее освобождения из ГУЛАГа, она представляет собой испытание совести постулантки перед вступлением в доминиканский орден. Мы уже видели, что «место попадания» – доминиканский монастырь в Пруй – окажется для Юлии интеллектуальным и «духовным самоубийством» и что ей придется поставить свой ум и перо на службу Церкви, тогда как в этой исповеди она отвергает «высокомерную идею» о возможности «быть полезной» делу Церкви.
Мы найдем в этом варианте самоанализа те черты характера, которые уже успели заметить в рассказе о «бурной, многогранной, всесторонне богатой жизни» Юлии Данзас. Вот как сама она определяет ту свою жизнь, в которой злоключения превышают любые потуги воображения ее западных собеседников: «У меня все время чувство, будто говорю с детьми, которые еще ничего не знают»: искушение самоубийством, сопровождающее привилегированную юность, гордыня (сюда стоит добавить и гордость от победы над гордыней), отвращение к светской жизни, «сильная и активная воля». Юлия Данзас страдает от склонности своего ума к чрезмерному анализу, что приводит порой даже к своеобразному раздвоению личности: следующий текст («Наедине с собой») представляет впечатляющий образчик такого раздвоения. Теперь же Юлия испытывает огромную «усталость» (это слово встречается в тексте пять раз) и жаждет отречься от своей воли в монастырском затворе.
После стольких лет молений о помощи, обращенных к святому Доминику, когда я просила его укрыть меня своим плащом, как в том видении, что было у меня в Риме более двадцати лет назад [2]; после того, как столько страшных лет я ощущала, как его покров уберегал меня от смерти, смягчал страдания и давал силы переносить страшные испытания, теперь, когда, приведенная к порогу его дома, я смиренно прошу принять меня в него, я испытываю свою совесть и пытаюсь разъяснить и для себя, и для тех, от кого зависит моя участь, то состояние души, в котором я подаю прошение о приеме в орден.
Физически, несколько месяцев назад я считала себя почти калекой, я сильно страдала от последствий цинги; особенно в плохом состоянии у меня были ноги, столько раз обмороженные, я ходила с трудом, опираясь на трость. Но хватило пятнадцати дней полного отдыха в хороших условиях, чтобы встать на ноги. Ходить снова стало доступно и легко, после отъезда из России у меня больше не было ни одного сердечного приступа, и в целом, я чувствую себя более сильной и живой, чем многие в моем возрасте (54 года). В юности я много занималась «спортом», в течение двадцати лет много занималась физической работой и с этой стороны считаю себя достаточно закаленной. Единственно, чего больше не могу выносить, – это холод, но в хорошем климате, я чувствую, мне вполне хватит сил для той работы, которая мне будет поручена, или для отсутствия удобств; к тому же, к любым лишениям я уже вполне привыкла.
Морально я намного старше своего возраста. Я столько видела, столько узнала за свою чрезвычайно богатую событиями жизнь, что порой мне кажется, что на мне груз более чем векового опыта. Все прошлое для меня живо, благодаря занятиям историей, довольно основательным, а кроме того, есть еще весьма сильные и разнообразные впечатления от собственной жизни: путешествия по всей Европе, скрытые пружины европейской политики, хорошо известные в ранней юности благодаря тому, что семья моя принадлежала к дипломатическим кругам, – затем царский двор императорской России, с его помпезностью и роскошью, но и с его интригами, затем научные и литературные круги, затем Великая война, которую я видела вблизи, даже приняв в ней небольшое участие, потом революционная буря, церковные дела, долгие годы заключения среди столь многих и столь разных людей, от великих мучеников за веру до великих преступников и отбросов рода человеческого. Я жила среди этого всего, я видела больше, чем обычно может нормальный человек, я узнала более, чем достаточно. Итогом стала огромная усталость, ощущение, что уже не можешь больше найти места в жизни, потому что, когда я разговариваю с современниками, у меня все время чувство, будто говорю с детьми, которые еще ничего не знают. Чувство это настолько сильное, что порой я с беспокойством задаю себе вопрос, действительно ли это непреодолимое религиозное призвание толкает меня в монастырь или же это прежде всего усталость от жизни и отвращение к миру. Но мне все-таки кажется, что даже если признать толику отвращения к миру в моей жажде монашеской жизни, то это отвращение само по себе уже будет знаком призвания, потому что иначе это отвращение неизменно приведет меня к самоубийству, уже столько раз меня искушавшему. Это искушение самоубийством я преодолела, думая о призыве святого Доминика. Поэтому, мне кажется, я могу утверждать полную искренность своего призвания, тем более, что эта борьба с помыслом самоубийства и прибегание к видению о плаще святого Доминика начались гораздо раньше: эта борьба восходит к времени задолго до тех великих испытаний, которые выпали на мою долю позже, она восходит к времени, когда жизнь предлагала мне лишь фавор и успех и никоим образом не могла вызвать к себе отвращения.
Глубоко проанализировав себя, мне кажется, я смогла обнаружить подводные камни, больше всего угрожающие миру в моей душе.
Прежде всего это сам по себе дух анализа. Я слишком привыкла себя анализировать, вплоть до своего рода раздвоения личности: мне часто кажется, что одна половина меня с любопытством изучает вторую половину и охотно над ней насмехается. Я знаю, что это утомительное и нездоровое состояние души, но никогда не могла найти этому никакого другого лекарства, кроме работы, интеллектуальной работы, которая поглощает настолько, что уже не получится слишком много думать о себе.
Затем – это гордыня. Прежде я была очень горделивой, и мне пришлось много бороться с этой опасностью, и даже теперь, когда эта борьба кажется мне почти законченной, я часто нахожу старого врага в каком-нибудь новом обличии, например, под видом гордости за победу над гордыней!
Кроме того, мне все еще приходится опасаться слабоволия в малых делах повседневности. Это тоже проистекает из охватившего меня чувства огромной усталости, поскольку по натуре своей я, наоборот, всегда была человеком сильной и активной воли. Я не просто всегда была очень волевым человеком, но еще и могла всегда делать все, что хочу: в семье я была избалованным ребенком, которому никогда ни в чем не отказывали; за долгие годы молодости, до Великой войны, у меня всегда были свобода, здоровье и материальные средства для исполнения всех моих желаний. Итогом стала усталость от желаний, реальная потребность в том, чтобы мной руководили и командовали. Во мне есть жажда полного послушания, полного отречения от своей воли, но считаю своим долгом заметить, что сейчас в это самоотречение входит и чувство усталости, жажда покоя после перенапряжения воли в ходе жизни, может быть, недостаточно радостного и активного послушания.