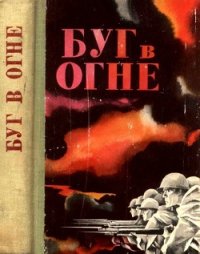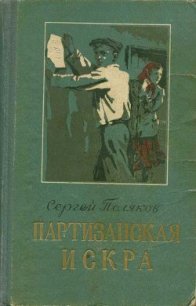От Волги до Веймара - Штейдле Луитпольд (читать книги онлайн без сокращений .TXT) 📗
Бехер уже тогда предвидел то, что сегодня стало у нас живой явью. Он уже тогда боролся за гуманистическую Германию, входящую в состав социалистического содружества народов и наций, следовательно, являющейся частью того мира, который мы, сталинградские офицеры, тогда и представить себе не могли. Вот почему при нашей первой встрече с Бехером я не в состоянии был понять многого, и очень существенного, в своем собеседнике. Но я чувствовал в его словах могучую силу убежденности. Только позднее я понял, что означает международная солидарность пролетариата и почему Бехер еще во время войны с такой уверенностью говорил о новом обществе, в котором обеспечено мирное будущее и нашего народа» 'Его отношению к людям и к миру, его особому дару анализировать и постигать суть политических и военных событий я и обязан теми критериями истины, которые позднее сыграли решающую роль на моем жизненном пути.
Профессор Арнольд
Маленький кряжистый человек вышел из-за стола и, соблюдая правила вежливости, предложил сесть. В комнате был полумрак, единственное окно заслоняли непроницаемые для света густые кроны старых деревьев.
Мне было не по себе. Неприятное ощущение усилилось от неуютно и скудно обставленной комнаты. Положив локти па письменный стол и чиркая огрызком карандаша по бумаге, профессор Арнольд приступил к беседе. Конечно, он располагал обо мне довольно точными сведениями. Никаких предварительных вопросов он не задал. Мы разговаривали так, словно возобновили давно начатую беседу.
– Хорошо, что вы познакомились с Бехером, – заметил он. – Мы с ним сотрудничаем давно. Вы здесь у нас встретитесь с земляками. В Баварии было немало революционеров. Кажется, Бехер говорил, что вы из Швабии. Вы когда-нибудь слышали о Гернле? Ведь вы раньше занимались сельским хозяйством?
Мне пришлось признаться, что я не имею понятия, кто такой Гернле. Потом зашел разговор о Мюнхене: красивый город, множество произведений искусства, оживленная культурная жизнь. В Германии немало таких городов. Он ведь в одной из своих лекций подробно рассказывал о судьбе этих городов, о том, как они разрушены. И в этом случае немецкие офицеры хранили молчание. Почему они держатся так замкнуто, так скупы на слова? Что я думаю по этому поводу?
Я откровенно сказал ему, что он слишком просто смотрит на вещи. Кто он такой, нам не известно. Для нас он, так сказать, чистый лист бумаги. Заметно, что он побывал во многих странах. Он хорошо знаком с немецкой литературой и прекрасно знает историю первой мировой войны. Об этом мы говорили в товарищеском кругу. Однако – об этом мы тоже говорили между собой – ведь он, несомненно, коммунист, а с коммунистами никто из нас не склонен пускаться в подробные объяснения.
Он помолчал. Затем сказал:
– Я, видите ли, не считаю немецких офицеров ни плохо осведомленными, ни малообразованными людьми. Но я думаю, что многие из них не хотят свести концы с концами.
Я недоуменно пожал плечами. Тогда он заговорил по существу, без обиняков. По-видимому, он внимательно изучил наши личные дела, познакомился с данными о наших гражданских профессиях. И он снова подчеркнул, что офицеры, конечно, были хорошо информированы обо всем происходящем. Его крайне возмутило то, что на его последнем докладе они держались так враждебно и замкнуто. Атмосфера была накаленная… Он чувствовал, что между ним и нами – стена. Он говорил намеренно резко, чтобы сломить нашу сдержанность. А нужно ли деликатничать с этими офицерами генерального штаба? Уж они-то деликатностью не отличались в обращении с русскими: и с солдатами и с гражданским населением.
Я молчал. Конечно, нас с ним разделяла стена, и эту стену намеренно создали мы. Конечно, мы были оскорблены тем, что он так открыто и агрессивно возлагал на нас вину за совершенные немцами действия, над которыми, впрочем, кое-кто из нас уже задумывался, и мы обсуждали эти действия в тесном кругу; ведь такие факты, как преследования евреев, зверства, совершенные над гражданским населением в оккупированных странах, несовместимы с честью солдата, с традицией – это просто исключено.
Мы выслушали его доклад в ледяном молчании; затем все как один шумно, нарочно стуча сапогами, спустились по главной лестнице на первый этаж; этим мы выражали протест против того, как этот советский профессор осветил факты, явно полагая, что и мы несем за них личную ответственность.
И вот теперь снова та же проблема: возвращение офицеров на действительную военную службу. Да, верно: мы возвращались не в какую-то неизвестную армию, а именно в вермахт; мы отдали в распоряжение Гитлера свои военные знания и опыт, а сделали мы это тогда, когда каждому должно было уже быть ясно, куда ведет политический курс Гитлера.
Почему? Как же теперь, за несколько минут, распутать этот клубок причин? Мы вернулись в армию, потому что в конце концов нужно было обеспечить средства к существованию наших семей; многие придерживались и такого мнения, что кто-нибудь должен быть на своем посту, чтобы и в этой новой армии оберегать традиции; нельзя же было все передать в распоряжение Гитлера, штурмовиков и банды эсэсовцев… Что же, собственно, нам было тогда известно и о чем мы узнали лишь позднее? Что именно мы хотели знать и чего старались не замечать? Как я вообще понимал в прошлом «политический курс Гитлера», эту формулу «покончим с унижением Германии, долой позор Версаля»? А как я объяснял массовые преследования евреев? Как «крайности», последствия которых надо бы сгладить, но это, мол, «борьба против коммуны»… И вот теперь я был на положении военнопленного, лицом к лицу с «человеком из коммуны». Этот коммунист поставил вопрос о нашем мышлении в двух планах; поясняя свою мысль, он подчеркнул: в 1934-1935 годах большинство офицеров добровольно вернулись на действительную военную службу. По существу, его слова не отличались от предостережения, сделанного мне отцом: возвращаясь на действительную военную службу, я оказываюсь в одной компании с эсэсовцами.
Профессор Арнольд прервал наступившее молчание. Всем нам хорошо известны, сказал он, достижения немецкого народа, и мы знаем, что немцы могли бы еще многого достигнуть. Немецкую культуру, великих немецких классиков высоко ценят ею соотечественники. Понимаю ли я, Штейдле, как были советские люди потрясены действиями германского вермахта? Неужели я не понимаю, что зверства эсэсовцев, концлагеря, бесчеловечные приказы и гнусное мародерство, бессмысленные поджоги целых селений, уничтожение женщин и детей, – что эти злодеяния находятся в вопиющем противоречии со всем тем, о чем и теперь, даже во время войны, советские люди говорят с уважением – о великих культурных достижениях немцев, обогативших культуру всего человечества. Такова была в прошлом Германия Гете и Шиллера, Эйнштейна и Планка, Гегеля, Маркса и Энгельса. Профессор Арнольд затронул еще один вопрос: ему приходилось беседовать с некоторыми военнопленными, вменявшими себе в заслугу, что они верующие люди. Какая же это, однако, своеобразная религия, которая мирится с тем, что человек, якобы придерживающийся учения о любви к ближнему, поступает как жестокий наемник: вторгается в чужую страну и убивает людей?
Профессор Арнольд сказал, что удивлен тем, как плохо знают великие революционные традиции германской истории даже офицеры генерального штаба; они имеют весьма поверхностное представление даже о революционных событиях 1918-1919 годов, очевидцами которых они ведь были. А когда идет речь о крестьянских войнах 1525 года или об освободительном движении 1812-1813 годов, о революции 1848 года, в которой принимали активное участие Маркс и Энгельс, либо о революциях XX века, у офицеров всегда одна и та же реакция: огульное осуждение. При этом они, осуждая, оставляют без внимания аналогичные события в мировой истории, игнорируют достоверные материалы, первоисточники, не учитывают позднейшее историческое развитие. Его просто поражает, сказал профессор Арнольд, ужасающее невежество во всем, что касается фактических данных; каждый раз точное знание подменяется повторением штампов.