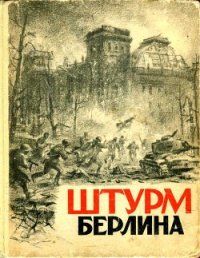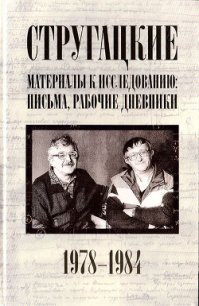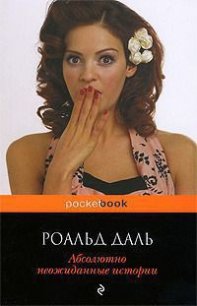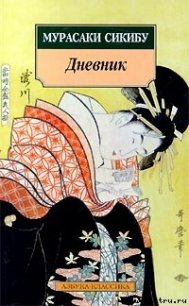Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания - Анчаров Михаил Леонидович (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
Очень скоро, конечно, он сбежал и с Бронной. Когда Эфрос в 1978 году, уезжая в Америку, сказал, что вот он приедет и Даль будет играть Гамлета, Олег уже ничуть не был очарован этими посулами и прекрасно понимал, что это опять будет спектакль, как он говорил, «об Офелии» и Гамлет в нем будет где-то на втором плане. Может быть, даже он был не прав, потому что если бы он взялся за роль Гамлета, то сыграл бы ее так, как ему было надо, а не Эфросу. Он бы этого добился. Но, возможно, у него на это не было сил — он был в каком-то отчаянном состоянии души. Может быть, потому, что он все лето тянул на себе «Утиную охоту» и, как он сам писал в дневнике, был уже абсолютно вымотан. Если бы он дождался Эфроса, не ушел бы с Бронной, а сыграл бы Гамлета и все остальное, что к тому времени репетировал, может быть, это было бы очень хорошо.
С репетиций «Продолжения Дон Жуана» он ушел тоже из-за того, что Эфрос его попросту предал: поехал работать в США, и наплевать ему было уже на все. Даже на то, что Олег сказал ему в лоб:
— Мы не смотримся вместе — я и Любшин… Анатолий Васильевич, давайте поменяем, что ли?.. Я и кто-то другой…
А Эфрос «маневрировал». Спору нет, Любшин — очень хороший, талантливый актер, но тут ничего совместного у них не получалось. Олег играл свое, Любшин — свое, и не было единения духовного. Никто из них по-настоящему не получал от работы удовлетворения.
А вот почему Олег сбежал с «Лунина»?.. Иногда, особенно после того, как Радзинский выступил по ТВ и рассказал обо всей этой истории, у меня было такое впечатление, что Олегу и пьеса нравилась, и Лунин был ему близок, и вся его жизнь, вся его история, что он сыграл на репетиции эту роль целиком и, может быть, почувствовал, что в наших театральных условиях, когда пьеса ставится в репертуар через день-два, он не сможет играть эту роль. Вот он сыграл ее своим сердцем и (я точно не знаю, но у меня было такое впечатление) бежал с Бронной в каком-то страхе, потому что для него это было слишком мучительно. Может быть, я ошибаюсь, но мне так казалось… И Радзинский говорил, что «Даль сыграл так, что это было невероятно». И вот, может быть, Олег тоже это почувствовал. Возможно, потом это вошло бы у него, как у хорошего актера, в какую-то норму. Играл бы — и играл. Притушевывал бы какие-то сильные свои страсти — и все. Как-то сумел бы сделать эту роль такой, чтобы играть ее, скажем, два или три раза в месяц. Но здесь так получилось еще и потому, что он был уже страшно больной человек. У него и с нервами было ужасно. По-видимому, у него не было никаких сил. И он сбежал. Итог двух лет, проведенных на Малой Бронной, — Беляев в «Месяце в деревне» и какая-то бредятина в «Веранде в лесу» Дворецкого. И репетиции, репетиции, репетиции; и обещания, обещания, обещания… И ВСЕ!!!
Когда он снимался в кино — там совсем другое дело. Кино и театр все-таки несравнимые по сложности, по трудности вещи. Когда работаешь на картине — это почти всегда небольшой отрезок, ты в любой момент можешь сказать, что не можешь сейчас сниматься, так как устал. В театре же выходишь на сцену и хочешь не хочешь, а должен играть. И вот тут, может быть, роковую роль сыграло именно состояние Олега: и физическое, и душевное. Какой-то надрыв. И если бы этот момент прошел в какой-то отрезок времени — все стало бы на свои места. Все бы пошло как надо, но здесь это было оборвано. Олег сам обрывал все эти нити. И делился своим состоянием только с дневником. Даже не с нами. И не потому, что нам не доверял. Во-первых, такими ощущениями очень трудно делиться, даже с самыми близкими людьми. Во-вторых, и себе-то их тоже трудно иногда объяснить — в том-то все и дело. И потом, Олег очень не любил огорчать меня и Лизу. Лиза мгновенно расстраивалась из-за каждой его бытовой или творческой неудачи. Конечно, в конце 70-х мрак был черный, потому что мы видели, как он болен. Он страшно похудел и ужасно выглядел. Январь и февраль 1981 года были самыми тяжелыми месяцами его жизни. И никаких жалоб ни на что!!! Про колено, например, он больше никогда не вспоминал и не жаловался. Вообще дома о болезнях, о том, что ему плохо, он никогда не говорил. Даже если я видела, что он принимает какое-нибудь лекарство, он никогда мне не объяснял какое:
— Дэ-э-э… От пуза я принимаю!..
В этом смысле он был очень скрытный человек. Да и что, собственно говоря, мы могли сделать? Ничего! Лишь одну вещь, да и та от нас полностью не зависела.
Если бы наша врач Виолетта была немного более проницательна, она бы ему обязательно сказала: «Олег Иванович, вам надо лечь на обследование. У вас что-то не в порядке с нервами и всем остальным». И он бы лег! Потому что очень уважал именно все эти исследования, попадал в определенную «медицинскую дисциплину» и успокаивался там. Те лекарства и те меры, которые к нему применяли, приводили Олега в порядок. Несколько раз он был в больнице в 70-е годы именно вот так вот, отдыхая и восстанавливая здоровье. Если бы она сказала ему тогда, незадолго до Киева: «Ладно! Потом поедете в Монино, а сейчас полежите-ка немножко, потому что вам нужно пройти такой-то курс лечения нервов и всего остального». Она бы вывела его из пропасти… Но она сказала не это, а:
— Ах, вы едете в Монино? Ну, очень хорошо! И все прекрасно…
А ему Монина было мало. Ему нужно было действительно подлечиться, полежать в больнице, отдохнуть. Но… ничего этого уже не исправишь… Судьба — есть Судьба.
Интересно будет упомянуть, что после своего ухода из «Современника» в 1976 году Олег еще раз играл Эгьючика на сцене этого театра. Мне кажется, ему было очень трудно это сделать. И не потому, что он забыл роль, а потому что он уже выбился из этой структуры — это был срочный ввод, замена уехавшего Кости Райкина. И кто-то мне потом сказал, что Олег очень плохо сыграл. Не помню кто, но сказал, что «он играл совсем не так, как обычно играет». По-видимому, ему это было трудно и психологически, и физически. Все-таки это роль, требующая очень большой отдачи, — это не просто текст. Сыграл он не то чтобы плохо, а без того «огонька», который всегда был ему свойствен, особенно в этой роли, где Олег блистал в немых сценах, играя только пластикой, мимикой — беззвучным юмором. Всего этого у него в тот раз не было. Ему уже не хотелось. Он играл безо всякой охоты. Он не зажегся, и поэтому у него не получилось так, как это было обычно и всегда: играю то, что хочу. Может быть, он сыграл сдержанно, потому что уже не хотел снова погружаться в дело, которое отсек навсегда.
Все это произошло, когда мы жили уже здесь, на Смоленском бульваре — году в 78-м. И пришел он из театра в таком плохом настроении… Нет, он не хлебнул там «воздуха „Современника“» — этого абсолютно не было. Он сыграл без всякой души, без сердца. Просто его попросили, и он заменил товарища. Тоже характерно: попросили — сыграл, выручил. Там, где он не имел совершенно никаких «связующих нитей». Сам Олег ничего не рассказывал об этом спектакле, и разговора об этом у нас не было. Но я про себя подумала: «Вот если все хорошо получится, и Олег опять загорится и будет играть в очередь с Райкиным, войдет опять в этот спектакль… хотя бы». Но нет, ничего подобного! Даже разговора об этом не было.
О работе Олега в Малом театре в последние месяцы жизни…
На этот счет у меня есть своя версия. Почему он в таком болезненном состоянии, в таком безысходном отчаянии пошел в Малый театр? Зачем он туда вернулся? Когда все произошло, когда Олег умер, у меня вдруг выстроилась определенная связная картина. Мне совершенно четко представилось, как в один из дней «нехорошего, трагического» 80-го года он подумал: ну что я, собственно, из себя представляю? Обыкновенный артист! Не «народный», не «заслуженный» — никакой… Нигде не работает. Живет и кормит семью на гонорары от киносъемок (когда снимается). И вот вдруг он умрет. И что же это будет такое? И он решил так: вернется в Малый — театр академический, где он начинал, где его помнят и знают. И у него будут такие похороны, какие он заслужил. А так бы его выносили из нашей квартиры три с половиной человека! Просто Олег как режиссер поставил свой последний спектакль. Вот такое у меня было впечатление. Когда я была на похоронах, я, конечно, об этом не думала, но потом, спустя какое-то время, у меня все это выстроилось в одну линию. Все это настолько быстро происходило… Ноябрь — приход в Малый. Декабрь — репетиции в театре и преподавание во ВГИКе. Январь и февраль — в Монине. Март — Киев. И все… У меня было такое впечатление, что он точно знал, что недолго протянет и что его будут хоронить, как положено хоронить известного человека и большого актера в им «нелюбимом доме», но все-таки своем родном театре. Может быть, думал он и о том, как трудно у нас было даже тогда похоронить человека, как нужно бегать и через себя скакать… Кто бы нам помог? Никто!!! Никто бы не пошевелился…