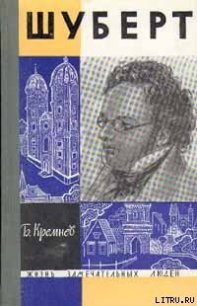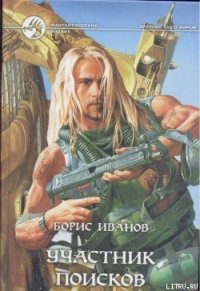Бетховен - Кремнев Борис Григорьевич (бесплатная регистрация книга TXT) 📗
И помощь пришла. Друзья и почитатели не оставили его в беде. Из Лондона прибыли деньги, и немалые– 100 фунтов стерлингов.
Больной воспрянул духом. Вернулись силы, уже совсем было покинувшие его. Он вновь обрел веру в будущее и как о чем-то абсолютно реальном стал думать о предстоящих делах. Всего лишь за неделю до смерти он обращается к Мошелесу с письмом:
«Я не могу выразить свои чувства словами… Благородство филармонического общества, откликнувшегося на мою просьбу, растрогало меня до глубины души… В знак самой горячей признательности я обязуюсь послать ему новую симфонию, набросок которой уже лежит на моем пюпитре, – новую партитуру и все, чего пожелает общество».
В квартиру, где прочно обосновалось горе, заглянула, хотя и накоротке, радость. «Печалям и заботам, – пишет Шиндлер, – сразу пришел конец… Охваченный радостью Бетховен сказал: «Теперь мы снова можем позволить себе радостный денек!…» В ящике оставалось всего 340 флоринов ассигнациями, и мы уже довольно долго ограничивались вареной говядиной и овощами, которые он терпеть не мог. На следующий день, в пятницу, он заказал свое любимое блюдо, свое лакомство – рыбу!…»
И еще одна радость скрасила последние дни Бетховена. Она была связана с самым дорогим для него – искусством. Из того же Лондона, от почитателей бетховенского гения пришел еще один подарок – полное собрание сочинений Генделя. Он давно мечтал о нем, но никак не решался купить, слишком дорого стоили эти ноты.
И вот теперь они были у него. Не отрывая глаз, любовался Бетховен роскошно изданными фолиантами, лежавшими высокой стопой на столе, и без конца просил маленького Герхарда подать ему в постель то один, то другой том.
– Гендель – самый великий, самый могучий композитор, – говорил он Герхарду, листая ноты, – у него я еще могу поучиться. Он величайший из классиков и самый глубокий из всех композиторов.
До последнего вздоха он не расставался с любимым искусством, думал о нем, заботился о нем.
– Искусство надо постоянно развивать, – сказал он юному Фердинанду Гиллеру, побывавшему у него незадолго до его смерти.
– В этом Шуберте воистину теплится искра божия. Со временем о нем заговорит весь мир, – проговорил он после знакомства со сборником песен Шуберта и, сходя в гроб, благословил тогда еще мало кому известного композитора.
Смерть приближалась. Он это чувствовал и понимал. Но он не боялся ее. К мысли о смерти он всегда относился мужественно. «Я часто думаю о смерти, – писал он еще в 1816 году графине Эрдед», – но без страха». А позже, в разговоре с одним из друзей, сказал:
– Смерть ничто, живешь только в самые прекрасные мгновения. То подлинное, что действительно существует в человеке, то, что ему присуще, – вечно. Преходящему же грош цена. Жизнь приобретает красоту и значительность лишь благодаря воображению, этому цветку, который там, в заоблачных высях, пышно расцветает. Душа подобна соли, что предохраняет тело от разложения.
Однако воображение, этот волшебный цветок, все больше и больше сникало, увядало, рассыпалось в прах. Беспощадный недуг сломил не только его тело, но и его могучий дух. Когда после долгого консилиума врачей, вынесших окончательный приговор, Шиндлер и другие друзья принялись уговаривать Бетховена принять причастие, он не стал противиться и быстро и равнодушно согласился. И только после того, как обряд был справлен, с едкой насмешкой произнес:
– Plaudite, amici, finita est comedia! [37].
Вряд ли стоит, как это делает Роллан, оспаривать сообщение доктора Вавруха об этом эпизоде и доказывать, что Бетховен «с глубоким благоговением» принял причастие.
Набожность никогда не была свойственна Бетховену. Он всю жизнь не признавал владык – ни земных, ни небесных. Когда в свое время юный Мошелес, закончив клавирное переложение «Фиделио», обрадованно и с явным облегчением написал на последней странице: «Конец, с божьей помощью», Бетховен сделал на том же листе язвительную приписку: «О человек, помогай себе сам».
И если теперь он согласился на причастие, то лишь потому, что ему уже все было безразлично.
24 марта началась агония. Она длилась долго – двое суток – и была мучительна и страшна. «Его могучий организм, его нетронутые легкие, как великаны, боролись со смертью, которая пробила брешь в стенах крепости, – вспоминает Герхард фон Брейнинг. – Безвозвратно отданный во власть разрушительных сил, лишенный всякой духовной поддержки внешнего мира, доблестный боец не сдавался».
26 марта выдался хмурый день. Серовато-белесое небо чем позже за полдень, тем становилось темней и темней. Даже снег, лежащий на земле и на крышах, не мог разогнать гнетущую мглу, повисшую над Веной.
От Дуная дул порывистый холодный ветер.
К пяти часам вечера разыгралась метель. Свирепая и неистовая, она кружила снежные вихри, совсем застилая свет. В комнате, где лежал Бетховен, стало темно, как ночью. Те, кто был рядом с умирающим, не решались зажечь свечи и только со страхом прислушивались к предсмертным хрипам, несущимся из тьмы, да к завыванию вьюги и дробному перестуку за окном: неожиданно пошел град вперемешку со снегом.
Как вдруг раздался страшный удар. Прогрохотал гром. И сразу же ослепительной вспышкой сверкнула молния. Комнату озарил яркий свет. Те, кто находился здесь, были потрясены небывалым, невиданным зрелищем. «Бетховен, – вспоминает Ансельм Хюттенбреннер, очевидец последних минут композитора, – открыл глаза и, угрожая небу, поднял правую руку, сжатую в кулак, словно хотел сказать:
– Я не сдамся вам, враждебные силы! Отступитесь!…
Мне казалось, что сейчас он, подобно отважному полководцу, крикнет своим растерявшимся войскам:
– Смелей, солдаты! Вперед! Положитесь на меня! Мы победим!
Когда рука упала обратно на кровать, глаза его полузакрылись. Моя правая рука поддерживала его голову, левая – покоилась на его груди. Он уже не дышал, сердце остановилось!…»
Бетховен умер 26 марта 1827 года.
В комнате пахло сосной и хвоей. Бетховен был еще здесь. Он лежал среди еловых веток, в открытом гробу из свежеоструганных сосновых досок, поставленном на спинки стульев, – строгий, надменный и отрешенный от всего земного.
А в доме уже творилось неладное.
Он умер лишь вчера. А уже сегодня, с утра пораньше, нагрянул брат Иоганн. Не глядя на покойника, не обращая внимания на Брейнинга, Швидлера и Хольца, застывших у изголовья и старавшихся запечатлеть в памяти дорогие черты, прежде чем они скроются с лица земли, он ринулся к письменному столу, стал с шумом и грохотом выдвигать и задвигать ящики, суетливо рыться в бумагах.
И эта суетливость и шум кощунственно нарушали торжественную тишину, которая приходит в дом вместе с покойником.
Иоганн искал злополучные акции и, не находя, все больше и больше нервничал. Перерыв стол, переворошив рукописи и бумаги, заглянув даже под крышку рояля, он заметался по комнате, внезапно остановился у гроба и, впившись в брата единственным глазом, закричал:
– Где они? Где?
Но Бетховен молчал, сердито и отчужденно.
Тогда Иоганн попятился к Шиндлеру и Брейнингу, отошедшим в угол комнаты, и, продолжая глядеть на брата, словно призывая его в свидетели, с присвистом прошипел:
– Это они… они их украли! – Когда он обернулся, в уголках его рта пузырилась слюна. – Отдайте мое богатство! Оно не ваше, оно мое! – снова закричал он, хотя по завещанию акции, равно как и все прочее имущество умершего, должны были перейти к племяннику Карлу.
После этого и Шиндлеру, и Брейнингу, и Хольцу ничего не оставалось, как тоже пуститься на поиски.
В комнате, где лежал мертвец, четверо живых, осквернив величественную неподвижность смерти, учинили обыск. Он ничего не дал, хотя все было перевернуто кверху дном.
Как вдруг Хольц, случайно приоткрыв платяной шкаф и засунув внутрь руку, наткнулся на что-то острое. Он распахнул дверцу и увидел гвоздь, торчащий из стенки. Хольц потянул за гвоздь. Выпал небольшой ящик. В нем Бетховен скрывал то, что считал самым ценным и сокровенным.
37
Рукоплещите, друзья, комедия окончена! (лат.)