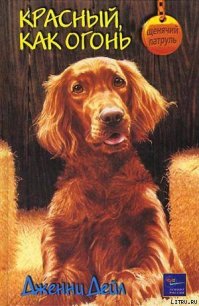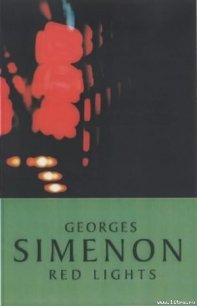Hohmo sapiens. Записки пьющего провинциала - Глейзер Владимир (книга жизни .txt) 📗
Круг этот состоял из вездесущего во языцех саратовского губернатора Аяцкова и равного ему по влиянию думского певца-патриота. Политические тяжеловесы вполне демократично приняли в объятия неожиданного собутыльника и бодро распили с ним разного спиртного под десяток тостов в честь юбиляра. Кобзон был душкой и побеждал в тестировании. Когда отношения приблизились к теплым, я перешел в атаку.
— Иосиф Давидович! — обратился я к новому другу. — А как насчет автографа?
— О чем речь, Владимир Вениаминович, давайте ручку.
Я тотчас вынул из кармана огромный фломастер, носимый мной для подобающих случаев, и, расстегнув пиджак, выпятил живот.
— Вот здесь, на рубашке, пожалуйста!
Для Кобзона сие предложение выпадало из запрограммированных пяти тысяч случаев из собственной жизни, и он неожиданно для себя растерялся.
— Не буду! — решительно сказал он.
— Почему? На моей рубашке, не на вашей.
— Не буду! Рубашку жалко, — нашел он аргумент.
— Да не беспокойтесь, Иосиф Давидович, я специально самую говенную надел!
— Охрана! Ко мне! — вмиг закончил спор певец под довольное чмоканье губернатора и сердечный приступ юбиляра.
Но вы не знаете великого Кобзона! (См. нач. повествования.) Как не знал и я.
Прошла пара лет. Я как деревенский деятель культуры по линии городской еврейской автономии был кооптирован делегатом на Российский еврейский конгресс. Иначе его называли просто: Конгресс Гусинского. Как монопольные «Чай Высоцкого» и «Сахар Бродского» до революции. В честь основателей и содержателей этих влиятельных организаций.
Приехал туда я вдвоем со старым другом по другой линии — азартным картежником и прожигателем состояний Мишелем Эпштейном. Выдающимся человеком несколько иных орбит постоянного вращения. Он дико озирался по сторонам и охал:
— Смотри-ка! Хазанов! О! Юлий Гусман, кавээнщик! А Юрий Щекочихин тоже еврей?
— Даже дворник Еремей потихонечку еврей! Евреи, евреи, кругом одни евреи, — пропел я на ухо другу частушку.
Вдруг балетным шагом с профессионально застывшей улыбкой на лице к нам подходит Кобзон и неожиданно для нас обоих говорит:
— Здравствуйте, Владимир Вениаминович! Очень рад вас видеть. А ведь я был неправ тогда, у Горелика. Как-то растерялся. Спасибо за шутку и урок. Есть возможность исправиться. Послезавтра свадьба моей дочери Натальи. Приходите с вашим другом. Вот вам кипы.
Вручает две белоснежные ритуальные шапочки вместе с текстом приглашения, жмет нам руки, откланивается и семенит дальше.
— Володичка! Ты что, Кобзона знаешь?
— Конечно, Мишель, я с ним знаешь, сколько водки выпил? — поддерживаю неожиданно возникший авторитет, не уточняя количества выпитого. — Теперь я пять тыщ первый случай из его жизни!
Мишель только пожал плечами.
Открытие мероприятия затягивалось. На глазах переполненного зала из президиума конгресса по-английски исчез главевреи Гусинский — явно встречать некую сверхзначительную персону. Мы с ополоумевшим Мишелем вышли из зала в фойе покурить. А может быть, и выпить. Этого добра в московском «Президент-отеле» хватало. Стоим в размышлении. Вдруг появляется стайка джентльменообразных. В центре депутации похохатывает в обнимку с медиамагнатом сам Черномырдин Виктор Степанович — премьер-министр и, как выясняется, жидомасон. Ну, думаю, Эпштейн, настал мой час!
— Замри, Мишель! — сквозь зубы шепчу земеле. — Сейчас нам обоим будет хорошо!
И походкой пеликана отчаливаю навстречу VIPaM, приветственно растопырив руки.
— Виктор Степаныч, дорогой, сколько лет, сколько зим!
Должен заметить, что мы с премьером не только почти ровесники, одеты прилично, но и пузами схожи. Происходит то, чего не могло не произойти. В. С. зеркально растопыривает свои руки, отрывается от протокольной и добровольной охраны, подходит ко мне с юношеским ускорением, прищуриваясь, быстро читает на моем бейдже ФИО и говорит замечательным баритоном (Помните — «Здравствуй, Басаев»?):
— Глейзер, Володька? А ты-то здесь какими судьбами?
— Укрепляю союз родного Оренбурга с родными эренбургами! — острю я.
— Да, где только не встретишь старого друга! — говорит счастливый премьер подошедшей свите. — Ладно, звони-заходи. У меня здесь всего полчаса. Договорились?
— Договорились, я тебе звякну! И расстаемся друзьями.
Сигарета вместе с фильтром тлела во рту остекленевшего Эпштейна.
— Володичка! Ты что, и Черномырдина знаешь?
— А кто его не знает, Мишель? Это он меня впервые видит!
Праздник нерушимой советско-еврейской дружбы продолжился на Поклонной горе, куда на автобусах-«мерседесах» с затемненными стеклами нас доставили от «Президент-отеля». Там торжественно открыли мемориальную синагогу в память жертвам Катастрофы. Событие — из ряда и вон выходящее.
Рассадили нас на свежем воздухе на разноцветные пластмассовые стульчики из-под Батуриной перед столом президиума под голубыми полотнищами с Давидовым шестиконечником за спинами сидящих и выступающих. Они состояли из всех наших: магната Гусинского, сидельца Щаранского, Кобзона в парике, Лужкова в кепке, Ельцина пока еще в форме, американского посла, взвода раввинов и роты богатырей из президентской охраны. За минусом последних, каждый толкнул подобающую речь, и все строем последовали в новостройку. Сначала мне все понравилось, а потом понравилось еще больше.
По обе стороны молельного зала были возведены стелы, на которых золотыми буквами величиной в аршин (слева — слева направо по-русски, а справа — справа налево на иврите) были написаны до боли знакомые слова. Я подошел к близстоящему раввину и подергал его за пуговицу.
— Учитель, — вежливо спросил я, — а кто автор этих щемящих слов?
— Об этом знают только двое, — национально затемнил ответ ребе.
— Кто же это, учитель?
— Автор и Господь! — опять же национально вывернулся раввин и достал серебряный портсигар в каменьях, намекая собеседнику на окончание разговора, и удалился в курилку.
Тут я увидел бывшего офицера конвойных войск МВД М. А. Эпштейна, громко спорящего в нецензурных выражениях со знаменитым адвокатом Генри Резником о прозрачности границы добра и зла. Я пожалел либерального присяжного поверенного, а когда-то моего пионервожатого, которого на его седую голову еще в буфете отеля познакомил с новым русским Эпштейном, ярым приверженцем ночных допросов с пристрастием типа конкурентов по бизнесу, и поманил экс-конвоира к себе.
— Мишель, хочешь быть третьим? — задушевно спросил я старого собутыльника и преферансиста.
— Это смотря какая компания, — обнаглев от близкого соседства с высокоуважаемыми членами президиума, проворчал спорщик.
— Не дай дуба, дружище! — задрал я нос. — Ты, я… и Господь Бог!
— Не понял? — сказал Мишка.
— А я тебя «на понял» и не беру. Ты без темных очков золотые буквы прочитать можешь?
— Ну и что, — прочитал по слогам короткий текст Эпштейн, — что особенного-то?
— Да это мой собственноручный шедевр, сравнимый только с аналогичной надписью на кремлевской стене. Между прочим, тоже авторский — Ольга Берггольц сочинила. Помнишь, коротко и ясно: «Никто не забыт, ничто не забыто»? А здесь то же самое, только вид сбоку и про евреев.
— Володичка, не парь мозги! А где подпись под ксивой?
— Ты что, кент-мент, мне не веришь?
— Докажи, поверю! Я тебе не премьер-шлимазл из Керогаза.
— Звони нашей секретарше в Саратов!
— Зачем?
— И спроси ее, что коллега Глейзер отправлял полгода назад факсом Гусинскому!
Вышел неверующий Фома на улицу, достал дефицитный в ту пору сотовый телефон величиной с транзисторный приемник «Спидола», позвонил в родную фирму «Рим», а секретарша ему факс и зачитала — слово в слово с золотой надписью!
— Ну, ты, Володичка, даешь! В один день — Кобзонова свадьба, пьяный пионервожатый Резник, Черномырдин в дружеских объятиях, Ельцин в синагоге. Мне хватит глюков со вчерашнего бодуна. Идем в кабак за мой счет, похмелимся. Нет базара — заслужил!