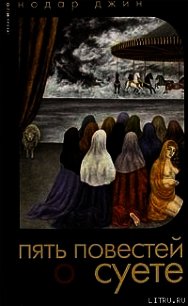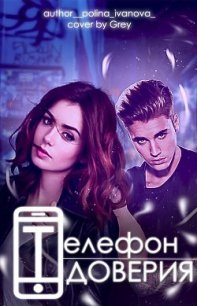Степень доверия (Повесть о Вере Фигнер) - Войнович Владимир Николаевич (читать книги онлайн полностью без сокращений txt) 📗
Я видела, что против меня нет никаких фактов, что меня преследуют собственно за дух, за направление: подозревали, что не может быть, чтоб человек, не лишенный образования, поселился в деревне без каких-нибудь самых ужасных целей.
Таким образом, я была лишена возможности даже физического сближения с народом и не могла не только делать что-нибудь, но даже сноситься с ним по поводу самых обыденных целей…
До этого момента мои задачи были общественно-альтруистические: они не затрагивали моих личных интересов. Теперь мне в первый раз пришлось на самой себе испытать неудобство нашего образа правления…
Моя предыдущая жизнь привела меня к убеждению, что единственный путь, которым данный порядок может быть изменен, есть путь насильственный. Мирным путем я идти не могла: печать, как известно, у нас несвободна, так что думать о распространении идей посредством печатного слова невозможно.
Если бы какой-нибудь орган общества указал мне другой путь, кроме насилия, быть может, я бы его выбрала, по крайней мере испробовала бы. Но я не видела протеста ни в земстве, ни в суде, ни в каких-либо корпорациях; не было воздействия и литературы в смысле изменения той жизни, которою мы живем, — так что я считала, что единственный выход из того положения, в котором мы находимся, заключается в насильственной деятельности.
Раз приняв это положение, я пошла этим путем до конца. Я всегда требовала от личности, как от других, так, конечно, и от себя, последовательности и согласия слова с делом, и мне казалось, что, если я теоретически признала, что лишь насильственным путем можно что-нибудь сделать, я обязана принимать и непосредственное участие в насильственных действиях, которые будут предприняты той организацией, к которой я примкнула. К этому меня принуждало очень многое. Я не могла бы со спокойной совестью привлекать других к участию в насильственных действиях, если б я сама не участвовала в них: только личное участие давало мне право обращаться с различными предложениями к другим лицам. Собственно говоря, организация «Народная воля» предпочитала употреблять меня на другие цели — на пропаганду среди интеллигенции, но я хотела и требовала себе другой роли: я знала, что и суд всегда обратит внимание на то, принимала ли я непосредственное участие в деле, и то общественное мнение, которому одному дают возможность свободно выражаться, обрушивается всегда с наибольшей силой на тех, кто принимает непосредственное участие в насильственных действиях, так как я считала прямо подлостью толкать других на тот путь, на который сама не шла бы.
Вот объяснение той «кровожадности», которая должна казаться такой страшной и непонятной и которая выразилась в тех действиях, одно перечисление которых показалось бы суду циничным, если бы оно не вытекало из таких мотивов, которые, во всяком случае, мне кажется, не бесчестны.
В программе, по которой я действовала, самой существенной стороной, имевшей для меня наибольшее значение, было уничтожение абсолютистского образа правления. Собственно, я не придаю практического значения тому, стоит ли у нас в программе республика или конституционная монархия. Я думаю, можно мечтать и о республике, но воплотится в жизнь лишь та форма государственного устройства, к которой общество окажется подготовленным, так что вопрос этот не имеет для меня особенного значения. Я считаю самым главным, самым существенным, чтоб явились такие условия, при которых личность имела бы возможность всесторонне развивать свои силы и всецело отдавать их на пользу общества.
И мне кажется, что при наших порядках таких условий не существует.
— Вы сказали все, что хотели? — спросил председатель.
— Да.
Она села, и никакие силы не смогли бы заставить ее говорить дальше. Она все сказала, она подвела черту. Теперь дело за судьями.
Председатель произносил слова четко и внятно: «…лишив всех прав состояния, подвергнуть смертной казни через повешение».
— Какой варварский приговор! — вырвалось у кого-то из защитников.
Варварский приговор! Она приняла его без страха и возмущения. В конце концов, она сделала все, что могла, и даже сверх того, что могла. Она устала. Устала бороться, устала жить.
На следующий день пришел надзиратель и сказал, что ее ожидают мать и сестра Ольга, которым разрешено свидание.
Во время следствия ей не раз разрешали свидания с матерью, и все они были тяжелы. Но на это свидание она шла, как на пытку. Сидеть и ощущать на себе скорбный взгляд матери, знающей, что это последняя в жизни встреча, — что может быть ужаснее?
И вот они сидят рядом в углу, а напротив, возле дверей, как полагается, два жандарма. Может быть, их присутствие даже к лучшему, при посторонних труднее предаваться своему горю.
Сидели молча. Того, о чем думали, не говорили. Неожиданно мать сказала:
— Газеты пишут, что Николенька выступает с большим успехом.
За годы, пока она училась в Швейцарии, готовила покушения и скрывалась от полиции, младший брат Николенька стал морским офицером, вышел в отставку, учился пению в Неаполе и там же дебютировал. Пел в Мадриде, Бухаресте. Знаменитый оперный певец. Сколько раз она пыталась представить себе его на сцене, но не могла и почему-то представляла всегда таким, каким видела в Казани, перед отъездом в Цюрих, — маленького, ушастого, в гимназической форме… Она задумалась и не слыхала, что говорит мать, ухватила только конец фразы:
— …все так делают…
— Что?
— Я говорю, — повторила мать, — адвокат считает, что ты должна подать прошение о помиловании.
Она посмотрела на нее с упреком:
— Мамочка, я вас прошу, не говорите мне об этом.
— Я ничего, ничего, Верочка, — смешалась мать. — Я только передаю то, что сказал адвокат.
До последнего дня мать не вмешивалась в дела дочерей, не пыталась навязывать свою волю. Но сегодня…
Два дня назад, когда они виделись в перерыве между заседаниями суда, мать вдруг сказала:
— Дай мне слово, что исполнишь мою просьбу.
— Никогда не дам, не зная, в чем дело, — ответила Вера. — Уж не хотите ли вы взять обязательство, что я не покончу с собой?
— Нет, — сказала мать. — Я знаю, что могут быть обстоятельства, когда смерть — наилучший исход.
Теперь вопрос о самоубийстве отпал сам собой.
Старший из сидевших у двери жандармов посмотрел на часы и равнодушно сказал:
— Дамочки, пора прощаться.
— Сейчас, сейчас, — поднялась мать. — Дитя мое. — Она перекрестила дочь и стала целовать, пристально вглядываясь, как будто хотела навсегда запомнить каждую черточку ее лица.
— Если бы я могла вместо тебя!..
Не договорив, она махнула рукой и, не оглянувшись, вышла быстро, боясь разрыдаться.
Теперь пришла Олина очередь, и она уткнулась лицом в грудь несчастной старшей сестры.
— Барышня, — хватал ее за плечо жандарм, — Пора вам уже, пора. А то смотритель ругаться будет.
— Иду. — Оля наконец оторвалась. — Верочка, — сказала она, пятясь к двери. — Я с тобой не прощаюсь. Я знаю, что царь тебя помилует. Дойдет до него — такие дела мимо него не проходят, — и он помилует.
Она задержалась на пороге и теперь молча смотрела на сестру с пронзительной жалостью.
«Уйди, не могу больше», — взглядом сказала Вера.
Дверь захлопнулась. Еле передвигая ноги, Вера дошла до своей камеры и свалилась на набитый соломой тюфяк в беспамятстве…
Она проснулась от ощущения, что кто-то стоит рядом. Вера вскочила. Перед ней стоял смотритель Дома предварительного заключения, морской офицер в отставке.
— Что вам нужно? — спросила она.
— Военные, приговоренные к смертной казни, решили подать прошение о помиловании. Но барон Штромберг колеблется и просил узнать ваше мнение.
— Скажите Штромбергу, — ответила она, — что я никогда не посоветую другим делать то, чего ни при каких условиях не сделала бы сама.
— И это все? — смотритель не уходил.
— Все!
— Какая вы жестокая! — смотритель вышел.
Она снова легла, подложив руки под голову. Какое отвращение вложил в свои слова смотритель! Что ж, пускай. Ему никогда не понять, что она чувствует. Да, жестокая. Но жестокая в первую очередь к себе самой. Да, она была строга к людям, требовала от них многого, но и себе не давала поблажки. Никогда и ни в чем. С тех самых пор, когда дала клятву сестре, никогда и ни в чем не отступала от своих убеждений, шла путем прямым, как стрела. Отказалась от всех соблазнов, отказалась от личной жизни, от любви, от семьи, от родных. Не позволяла себе лишний раз съесть конфету или надеть нарядное платье (если, конечно, не нужно было для дела). А теперь… Разве она попросила хоть какого-то снисхождения для себя? Наоборот, самым подробнейшим образом рассказала суду о своем личном участии во всех крупных делах, о своей связи с Соловьевым, о двух попытках покушения под Одессой, о своем участии в деле 1 марта, о своей роли в подготовке убийства Стрельникова. Военных приговорили к смертной казни. Но и ее, женщину, приговорили к тому же. И она взойдет на эшафот. Без улыбки (на улыбку нет сил), но достойно, и ни намека на просьбу о пощаде не услышат от нее палачи. Так может ли она в ее положении предлагать другим сделать то, на что не согласна сама?