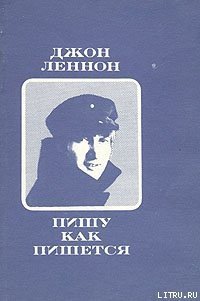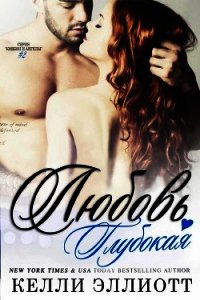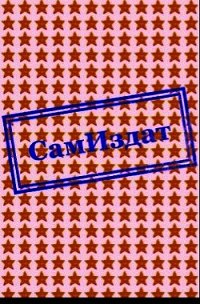На берегах Невы - Одоевцева Ирина Владимировна (серии книг читать бесплатно TXT) 📗
Я слушала и не верила. Гумилев не мог этого сказать. Я стала расспрашивать всех, и все повторяли одно и то же: «Можно напечатать. Похож на „Черную шаль“». Что же это такое? Я недоумевала. Значит, я не бездарна? Значит, моя жизнь еще не кончена?..
Теперь, когда оглядываюсь назад, мне ясно, что Гумилеву было известно, кто автор сонета, похожего на «Черную шаль», и он, пожалев «рыженькую с бантом», снова «перегнул палку» уже в сторону чрезмерных похвал.
И все же я не пошла на следующую лекцию Гумилева. Я выдерживала характер. Хотя эта выдержка давалась мне нелегко.
Я, как тень, металась по коридору мимо класса, где вел занятия Гумилев, и только из остатка самоуважения не подслушивала у дверей.
И однажды случилось невероятное: Гумилев, окончив занятия, вышел раньше обыкновенного из класса и спустился по лестнице.
Я, сама не зная почему, стала тихо спускаться за ним. Он, надев свою доху и оленью ушастую шапку, не пошел к двери, а круто повернул прямо на меня. Я, как это бывает во сне, почувствовала, что окаменела и не могу двинуться с места.
– Почему вы больше не приходите на мои занятия? – спросил он, глядя на меня одним глазом, в то время как другой глаз смотрел в сторону, будто внимательно разглядывая что-то.
И под этим двоящимся взглядом я не нашла в себе даже силы ответить.
– Почему вы не приходите? – повторил он нетерпеливо. – Непременно приходите в следующий четверг в четыре часа. Мы будем вместе переделывать ямбы на амфибрахии. Вы знаете, что такое амфибрахии?
Я молча покачала головой.
– А знать необходимо. – Он улыбнулся и неожиданно прибавил: – Вас зовут Наташа.
Не вопрос, а утверждение.
Я снова покачала головой.
– Нет. Совсем нет, – проговорила я быстро, холодея от ужаса за нелепое «совсем нет».
Гумилев по-своему оценил мой ответ.
– Вы, мадемуазель, иностранка?
– Нет, я русская, – ответила я с раскатом на «р» – «рррусская». И будто очнувшись от этого картавого раската, бросилась от него вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.
– Так в четверг. Не забудьте, в четыре часа. Я вас жду, – донесся до меня его голос.
Забыть? Разве можно забыть? И разве я могла не пойти, когда он сказал – я вас жду!
И я в четверг уже сидела в классе, когда вошел Гумилев. В тот день я узнала, что такое амфибрахий.
И даже впервые услыхала имя Георгия Иванова.
Гумилев, чтобы заставить своих учеников запомнить стихотворные размеры, приурочивал их к именам поэтов – так, Николай Гумилев был примером анапеста, Анна Ахматова – дактиля, Георгий Иванов – амфибрахия.
Но кто такой амфибрахический Георгий Иванов, я не знала, а Гумилев, считая нас сведущими в современной поэзии, не пояснил нам.
В тот же день мы переделывали «Птичку Божию» в ямбы:
и так далее.
И я с увлечением, забыв о прошлом, подыскивала слова.
С тех пор я стала постоянной посетительницей лекций Гумилева, но старательно избегала встречи с ним в коридоре.
Через месяц я уже понимала, что Гумилев был прав, что мои прежние стихи никуда не годятся, и сожгла тетрадь, где они были записаны.
«Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами» медленно горела в камине, а я смотрела, как коробятся и превращаются в пепел строки, бывшие мне когда-то так дороги.
Ведь Гумилев говорил: лучше все, что вы написали прежде, сжечь и забыть. Из огня, как феникс, должны восстать новые стихи.
Но мои новые стихи совсем не были похожи на феникса. Ни легкокрылости, ни полета в них не было. Напротив, они, хотя и соответствовали всем правилам Гумилева, звучали тяжело и неуклюже и давались мне с трудом. И они совсем не нравились мне.
Не нравились мне и стихи, сочиненные под руководством Гумилева на практических занятиях, вроде обращения дочери к отцу-дракону:
И хотя я поверила Гумилеву, что «испанцы и маркизы – пошлость», но семиглавый дракон с двенадцатизвездной чешуей меня не очаровал. Гумилев сам предложил строчку – «Двенадцатизвездной твоей чешуи», и она была принята единодушно. Все, что он говорил, было непреложно и принималось на веру.
Да, учиться писать стихи было трудно. Тем более что Гумилев нас никак не обнадеживал.
– Я не обещаю вам, что вы станете поэтами, я не могу в вас вдохнуть талант, если его у вас нет. Но вы станете прекрасными читателями. А это уже очень много. Вы научитесь понимать стихи и правильно оценивать их. Без изучения поэзии нельзя писать стихи. Надо учиться писать стихи. Так же долго и усердно, как играть на рояле. Ведь никому не придет в голову играть на рояле не учась. Когда вы усвоите все правила и проделаете бесчисленные поэтические упражнения, тогда вы сможете, отбросив их, писать по вдохновению, не считаясь ни с чем. Тогда, как говорил Кальдерон, вы сможете запереть правила в ящик на ключ и бросить ключ в море. Теперь же то, что вы принимаете за вдохновение, просто невежество и безграмотность.
Я ежилась от таких речей. Надо действительно быть всецело преданным поэзии, чтобы выдержать эту «учебу».
Я не пропускала ни одной его лекции и дома исписывала целые тетради всевозможными стихотворными упражнениями.
Сколько рондо, октав, газелл, сонетов я сочинила в те дни!
Был уже май месяц, когда Гумилев, войдя в класс, заявил:
– Сообщаю вам сенсационную новость: на днях открывается Литературная студия, где главным образом будут изучать поэзию.
И он стал подробно рассказывать о Студии и называть имена писателей и поэтов, которые будут в ней преподавать.
– Вам представляется редчайший случай. Неужели вы не сумеете им воспользоваться? – Он оглядел равнодушные лица слушателей. – Боюсь, что никто, – и вдруг протянул руку, длинным пальцем указывая на меня, – кроме вас. Ваше место там. Я уже записал вас. Не протестуете?
Нет, я не протестовала. Мне казалось, что звезды падают с потолка.
Гумилев был прав – из «Живого слова» никто, кроме меня, не перешел в Литературную студию.
Литературная студия открылась летом 1919 года.
Помещалась она на Литейном в доме Мурузи, в бывшей квартире банкира Гандельблата.
Подъезд дома Мурузи был отделан в мавританском стиле «под роскошную турецкую баню», по определению студистов.
Когда-то, как мне сейчас же сообщили, в этом доме жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, но с другого подъезда, без восточной роскоши.
В квартире банкира Гандельблата было много пышно и дорого обставленных комнат. Был в ней и концертный зал с эстрадой и металлической мебелью, крытой желтым штофом.
В первый же день Гумилев на восхищенное восклицание одной студистки, ощупавшей стул: «Да весь он из серебра. Из чистого серебра!» – ответил тоном знатока:
– Ошибаетесь. Не из серебра, а из золота. Из посеребренного золота. Для скромности. Под стать нам. Ведь мы тоже из золота. Только для скромности снаружи высеребрены.
«Мы», конечно, относилось к поэтам, а не к студистам.
Впрочем, из студистов, не в пример живословцам, многие вышли в люди, и даже в большие люди.
Одновременно со мной в Студию поступили Раиса Блох, талантливейший рано умерший Лева Лунц, Нельдихен, еще не успевший кончить школы Коля Чуковский и Вова Познер, Шкапская и Ада Оношкович-Яцына.
Ко времени открытия Студии Гумилев уже успел многому научиться и стать более мягким. Разбор стихов уже не представлял собой сплошного «избиения младенцев». Ни Коле Чуковскому, ни Вове Познеру, ни Лунцу не пришлось пережить того, что пережила я.
Напротив, все для них сошло гладко и легко – как, впрочем, на этот раз и для меня.