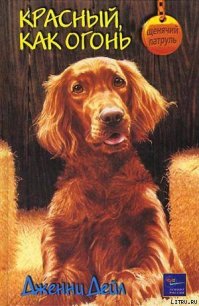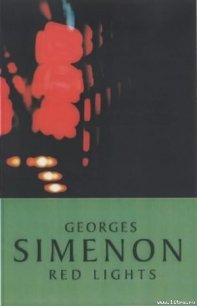Hohmo sapiens. Записки пьющего провинциала - Глейзер Владимир (книга жизни .txt) 📗
И мы кинулись в первую попавшуюся поликлинику. Медперсонал, наблюдавший столь необычное физическое явление, покатился со смеху. Но скорую бесплатную помощь оказал: каждый получил по горсти таблеток активированного угля. С рыганьем пучина отступила!
Не знаю, какие выводы из этого порока сделал ныне всемирно известный ученый Дядя-Вадя, но вот уже пятьдесят лет я в рот не беру шампанского. С водки такого не бывает!
В день когда сняли Хрущева, я вылетал в Москву по студенческому билету — восемь рублей в один конец и двадцать пять — на расходы. На подходе к кассе я увидел, как из внутренних помещений вытаскивают пять портретов бывшего дорогого Никиты Сергеевича.
Портреты в золоченых рамах, писанные маслом.
— Куда тащим, ребята? — поинтересовался я.
— А на склад, куда он уже на хер нужен! — сказали пьяные ребята. И тут я понял, что могу отплатить Самаре равноценным добром.
— Ребята, продайте мне Хруща! — предложил я как бы нехотя.
— Вождь, даже бывший, хорошей копейки стоит! — вступили в торг ребята.
— Пузырь за физию, — твердо заявил я цену.
За двадцать рублей я через минуту приобрел всю коллекцию. И, позабыв про Москву, на такси привез пыльные опальные парсуны в мастерскую к Сашке.
— Самара, мы — миллионщики! Ты просто об этом не знаешь, — сказал я и залился радостным смехом.
Сашка посмотрел на меня как на идиота. Я продолжил свой высокопарный спич:
— Маэстро, рад представиться, ваш импресарио и благодетель!
Сашка смотрел на меня уже как на клинического идиота.
— Александр, вы гений эпохи возрождения эпидиаскопа! Но только мать родная — советская власть — самим своим бессмысленным существованием духовно и материально обогащает талант. Все лики вождей проходят цензуру — посмотри, пожалуйста, на жирные гербовые печати на задниках шедевров, изваянных суперхалтурщиками со спецразрешениями. Нет с нами глупого Никиты, но есть чудесные болванки под образы вечно не снимаемых вождей пролетариата — Ленина, Маркса, Энгельса. Ты замазываешь позорную звезду Героя на пиджаке героя реабилитации и кукурузы. В творческом порыве подрисовываешь маслом усы и бороды соответствующего фасона. И через час работы получаешь уже утвержденные цензурой портреты усопших вождей революции, свежие лики которых скроют на линялых обоях пятна, оставшиеся от портретов Хруща. Дай мне рублей двести, и я завалю тебя творчеством. А потом поделим приваловские миллионы пополам. Я тоже хочу стать миллионером!
И мы ими стали! Конечно, ненадолго — Самарина школа не позволяла копить богатства.
Постоянным напарником Сашки по «малярии» в подсобке кинотеатра «Победа» был седой и лохматый первородный диссидент-романтик Борис Яковлевич Ямпольский. Гордец принципиально не брал денег от строя, упекшего его в тридцать восьмом на восемнадцать лет лагерей ни за что ни про что с первого курса филфака, и жил только на приработки, не вносимые в платежную ведомость. Этакий «политвор в законе». Привлечение за тунеядство ему не грозило: Ямпольский был полностью реабилитирован, и отбытого срока ему хватило бы на совершение и более тяжких преступлений.
По зэковской закалке он ничего не заносил на бумагу, но помнил наизусть ВСЕ! Когда Борис Яковлевич стал хорошим русским антисоветским писателем, я всерьез подозревал, что свои тексты он кому-то надиктовал, но точно не записывал. Экс-зэк непрерывно курил вонючие папиросы «Беломор», водку с нами не пил. Но просиживал на общих застольях допоздна, участвуя в разговорах неисчислимыми лагерными историями про чекистов и троцкистов, которые по промежуточным итогам классовой борьбы голодали на одном лесоповале. Чем учил меня на сих примерах естественным основам антисоветизма. Потом я их увидел в напечатанной форме. У Варлама Шаламова: «Не верь, не бойся, не проси!»
Однако лично Борису Яковлевичу я верил — и не просил, и не боялся, согласно его завету, в последующей жизни.
Сашка никогда не рассказывал о войне. На все мои вопросы он отсмеивался:
— Мемуары пишут коменданты и интенданты, им было на что посмотреть. А что я — сплю и воюю, воюю и сплю, и так все мемуары — одно и то же. Скукота.
Мне было это странно и даже подозрительно. Сашка был хорошим рассказчиком всякого рода анекдотов и случаев из своей развеселой жизни. Неужто права мама-уберегательница? Ясность внес ряд последующих обстоятельств.
Сашкина жена, восточная красавица и шалава Лия, была концертмейстером в государственной консерватории, поэтому классическую музыку Самара ненавидел. Но знал наизусть тогда еще полуподпольного Булата Окуджаву и, напевая: «Девочка плачет — шарик улетел, ее утешают — а шарик летит», — даже пускал слезу.
Когда в самом начале шестидесятых с выездной редколлегией журнала «Юность» в наш город приехал сам Булат молодой, я впервые увидел и услышал его на концерте в студенческом клубе культуры. Уже знаменитый бард понравился мне всем — поджарый, коротко стриженный брюнет. Залысины только подчеркивали его природную высоколобость.
Поздно ночью после концерта мне позвонил Сашка:
— Вовка, помоги мне из одного места выбраться, рядом с тобой, а то я забурел!
Через десять минут я был в прокуренном до тумана номере гостиницы «Волга», где обнаружил влюбленную парочку — Сашку и Булата. Помятые голубки не пели песен и не читали стихов. А, слюняво обнимаясь на диване перед журнальным столиком, заваленным порожней тарой, утирали по-детски сопли, называли друг друга Булатиком и Талисманчиком и, не чокаясь, пили водку.
Это были не какие-нибудь друзья-однополчане, а родные братья по оружию, которых развело на двадцать лет только тяжелое ранение Булата. Так что музыкальные пристрастия Самары имели еще и глубоко личные исторические корни.
Году в семидесятом, уже после того, как Сашка ушел из семьи и запил капитально, он ломает в автотранспортном происшествии правую руку, и ломает ее серьезно. Срастается она долго и неправильно, работать как художник левой он не может, сидит на страшной и непривычной для него мели и куда-то пропадает почти на полгода. Вдруг мне звонит наш общий знакомец и кричит отчаянно в трубку:
— Вовка, нашелся Самара, он в тюрьме за хищение, в понедельник — суд!
До понедельника меня к Сашке не пустили, и увидел я его только на скамье подсудимых. Он исхудал донельзя, лицо его как бы ссохлось, но зубы сверкали улыбкой — он все равно был Жаном Маре.
Криминальная фабула была простейшей. Друзья, видя, как всерьез бедствует Сашка, человек одной-единственной мирной профессии, устроили его на синекуру — вроде бы экспедитором на какой-то мясокомбинат. Обвинялся Самара в похищении то ли вагона бараньих полутушек, то ли полувагона бараньих тушек, которые, впрочем, найдены не были.
Показания Сашки на суде не отличались от данных на предварительном следствии: запил — может, украл, может, нет, не помню. Ни свидетелей, ни подельников на процессе не было. А был ворох каких-то бумаг, из которых будто и следовал факт хищения в особо крупном размере, за что прокурор потребовал по минимуму — двенадцать лет строгого режима по расстрельной статье.
Но тут появился в какой-то гоголевской шинели адвокат, который по существу уголовного дела ничего не сказал, а вынул горсть медалей и орденских книжек. Он отобрал из этой кучи три, положил их в рядок на свой портфельчик и показал судьям. Это были солдатские ордена Славы. Самара, по-старорежимному, был полным георгиевским кавалером! Официально этот набор равнялся Герою Советского Союза.
Суд удалился на совещание, и Сашку, на всякий случай, амнистировали по случаю двадцатипятилетия Победы.
Из зала суда мы пошли в «Европу», сели за мой столик, заказали водку и закуску, и Сашка сказал «за войну»:
— Я воевал в батальонной разведке, ходил к немцам за «языками», не пил и не курил все эти годы, потому что я из семьи кержаков-староверов. Первый раз, не поверишь, выпил в день победы! Ни разу не был ранен, получил за это от ребят кличку «Талисман». И знаешь, чему я от «языков» научился? Держать язык за зубами! А то бы я, Вовка, до суда и не дожил.