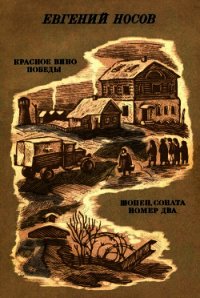Шопен - Оржеховская Фаина Марковна (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений TXT) 📗
Марыня была очень способной девушкой. Хорошо играла на фортепиано и даже немного сочиняла. Кроме того, писала красками. Это, пожалуй, удавалось ей лучше всего, но она не собиралась заниматься этим серьезно. Она была достаточно умна, чтобы трезво оценить свои способности и понять, что они весьма пригодятся ей для основной цели – царить и блистать и обществе. Но менее всего она могла видеть цель в самом искусстве.
Приезд Шопена был еще одним этапом к самовозвышению Марии. Ее поклонники нравились ей, но не затрагивали ее сердца. Все они были хуже Словацкого, она не раз с нежностью вспоминала его. Но Шопеном она увлеклась, ей пришлось сознаться себе в этом. Она еще помнила свою детскую сильную привязанность к нему в Служеве. Ей нравились его изящество, золотистые глаза, пепельные волосы, обильно падающие на лоб, его остроумие. Нравилось и то, о чем писал ей Антек, а именно – что Шопена отличают самые прекрасные женщины Парижа. Антек сообщил ей и о Дельфине Потоцкой. «Что ж, тем больше чести для меня, если я ему понравлюсь!» – так думала Мария, проверяя свое «вооружение». Фридерик бывал у Водзиньских каждый день и виделся с Марией. Пани Тереза не только не мешала им, но всячески поощряла эту дружбу. Она называла Шопена своим «четвертым сыном», говорила ему «ты», а Мария уверяла его, что он заменяет ей отсутствующего любимого Антека.
По вечерам, за чайным столом, семейство предавалось воспоминаниям. Казимеж ведь тоже воспитывался у пана Миколая; правда, он был моложе братьев, но помнил все подробности их жизни. Другой темой, для Казимежа особенно важной, был Париж: Казик завидовал брату, купающемуся в парижских удовольствиях. В эти часы общих разговоров у Фридерика появлялась иллюзия, что он уже вошел в эту семью. Все интересовало его, от романов Феликса Водзиньского, который собирался жениться, до успехов Юзи, второй дочери Водзиньских. Юзя гостила у родственников, но пани Тереза жаловалась, что она и там сидит над книгами – так она любит учиться.
Перед ужином Фридерик проводил время в изящной комнатке Марыни. Дело в том, что она начала акварельный портрет Шопена. Это нравилось ей больше, чем играть и слушать музыку. Рисуя, можно разговаривать, а она считала себя и действительно была приятной собеседницей. Музыку она слушала охотно, но быстро утомлялась. И потом, когда долго молчишь, надо думать о выражении лица. Что еще ее беспокоило, так это необходимость сказать что-нибудь по поводу музыки, а что сказать – она не знала. Мазурки, полонезы, этюды – все сливалось у нее в ушах. Все было хорошо, прелестно, но нельзя же произносить только эти два слова! Вариации этих слов не так уж многочисленны, а некоторые и не совсем уместны. Воскликнуть: «Божественно!» – это покажется ему напыщенным, ведь он так умен! А сказать: «Мило!» – пожалуй, обидится!
Поэтому она молчала и только взглядывала на него своими выразительными глазами. Ей было так весело в течение этих двух недель, так много нового появилось в ее жизни, что она искренне огорчилась, узнав о близком отъезде Шопена. Остальные также были огорчены: пани Тереза даже прослезилась, Казимир насупился, а маленькая Тереза сказала, что «этого не может быть».
Накануне отъезда Фридерик сидел в комнате Марыни, позируя ей в последний раз. Портрет не был готов.
– Ну, ничего, – сказала она, – я закончу его в следующий ваш приезд. Ведь это будет?
– Я желаю этого всем сердцем.
– Ну вот и чудесно!
Ничего определенного еще не было сказано, но все было ясно. «У меня еще будет время решить, – думала Марыня, – а пока пусть длится прекрасная неизвестность».
В это время в комнату вбежала маленькая Тереза.
– Марыня, тебя ждет Лиза Дениш! – сказала она поспешно.
– Кто? – нахмурившись, переспросила Мария.
– Лиза Дениш с детьми. Кривая. Она говорит, что ты велела ей прийти!
Мария еще более нахмурилась.
– Но надо же знать время! Эти простолюдинки несносны! Достаточно им оказать внимание, так отбоя от них нет! Пусть придет попозже! – недовольно прибавила она.
Тереза постояла немного и вышла.
Оставшиеся молчали. Эта вспышка была неожиданной. Резкие слова о простолюдинке могли удивить. В устах девушки, мечтающей о полях и дубравах и о лечении бедных хлопов. Марыня сама почувствовала это. «Надо все-таки следить за собой!» – подумала она с досадой. Чтобы загладить неприятное впечатление, она попросила Шопена поиграть. Он согласился, но как-то рассеянно, словно ему было не по себе. Марыня приблизилась к вазе, где стояли цветы, и выбрала красную розу – символ сердечной привязанности. Потом она подошла к Фридерику очень близко и протянула розу.
– Сохраните ее, если сможете, – сказала она вполголоса.
Глава седьмая
После шумного Парижа Лейпциг производил странное впечатление. Спокойные улицы, люди, имеющие деловой и строгий вид, размеренный уклад жизни – все это не могло не удивить парижанина, приехавшего сюда впервые. Это был богатый купеческий город, в котором наряду с признаками средневековой старины выступали достижения более поздних времен: новые здания, экипажи, нарядные магазины – все свидетельствовало о буржуазной добропорядочности, солидности, зажиточности и несомненном прогрессе, бурном по сравнению с прошлым, умеренном по отношению к будущему.
После Дрездена Шопен прибыл в Лейпциг, чтобы повидаться со своим заочным почитателем Шуманом, но главным образом для того, чтобы не возвращаться в Париж так скоро. Париж означал долгую разлуку с Марыней, по крайней мере до будущей весны. Он был теперь чужд Шопену, этот большой, беспокойный город; сердце Фридерика более чем когда-либо принадлежало Польше. Он чувствовал, что после свидания с родителями и с Водзиньскими ему придется заново примыкать к парижской жизни. Он как будто побывал на родине.
Фридерик знал Шумана по его статьям в лейпцигской музыкальной газете. Впрочем, трудно было сказать, какие именно статьи принадлежат Шуману, так как сотрудников в газете было, по-видимому, много. Все подписывались не своими именами, а странными, на гофмановский лад, романтическими псевдонимами: Евсебий, Флорестан, Меритис, маэстро Раро и т. п. Но статьи были интересные. Строго говоря, это были даже не статьи, а маленькие поэтические рассказы, диалоги, сценки. Кое-что в них могло показаться восторженным, преувеличенным; так казалось Шопену. Но в «Новой музыкальной газете» радовали обилие мыслей, глубина знаний; чувствовалось, что там любят музыку, а вопросы ставились остро и смело.
Если судить по прежним номерам газеты, которые Феликс Мендельсон показывал Фридерику, то в ней произошла разительная перемена с тех пор, как Шуман сделался ее редактором. Предшественник Шумана был поклонником философии Канта, который, как известно, не любил музыку. А так как добросовестный ученик должен стараться превзойти своего учителя, то редактор лейпцигской газеты не только невзлюбил музыку, но прямо-таки возненавидел ее. Странно, что при этом он редактировал именно музыкальную газету. Но если вдуматься, то подобные несоответствия бывают не так уже редко. Во всяком случае, у любителей, прочитавших в лейпцигской газете о каком-нибудь музыкальном сочинении, пропадала охота знакомиться с ним – так скучно и вяло оно было описано. И если в Лейпциге все-таки любили музыку, то помимо газеты и вопреки ей.
Газету Шумана читали нарасхват. В ней можно было найти и разбор музыкального сочинения, и увлекательно написанную биографию, и даже заметки о теории и гармонии. Все это было серьезно и чрезвычайно занимательно. Статья, посвященная Шопену, была помещена здесь одной из первых.
– Но кто же все эти Флорестаны, Евсебий и Меритисы? – спрашивал Шопен полуиронически и все же с уважением. – Они пишут несколько витиевато, но, по всему видно, что они хорошие музыканты.
– Благодарю за доброе мнение! – отвечал Мендельсон. – Меритис – это я. Впрочем, я был им недолго. А Флорестан и Евсебий – странные, но хорошие парни. Флорестан – горячий, живой, увлекающийся, а Евсебий – наоборот, рассеянный и мечтательный флегматик. Раро – это умеренное начало, уравновешивающее крайности Флорестана и Евсебия.