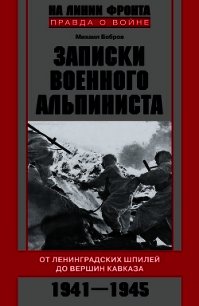Годы и войны (Записки командарма. 1941-1945) - Горбатов Александр Васильевич (мир бесплатных книг txt) 📗
Офицерам нашей армии, несмотря на то что им доставало дел в войсках, пришлось вести работу и среди местного населения. Устраивались беседы, митинги, демонстрировались кинокартины, распространялась газета Люблинского комитета «Вольна Польска». Поляки охотно принимали участие во всех политических обсуждениях и раскупали газету на родном языке; встречались только трудности с оплатой, так как здесь еще не было польской монеты.
Думаю, политическую работу было легче проводить на люблин-варшавском направлении, где дислоцировались и принимали участие в боях плечом к плечу с соединениями Советской Армии воины союзного нам Войска Польского. Сам факт прихода прекрасно вооруженной, обмундированной в национальную форму возрожденной польской армии вызывал у населения энтузиазм; ведь гитлеровцы заявили, что поляки как нация, имеющая свое государство, исчезли с лица земли навсегда.
У нас было сложнее, потому что в нашем районе осталось больше реакционных старых чиновников в разного рода прислужников бывших властей и помещиков. Они сопротивлялись демократизации Польши, саботировали распоряжения Временного польского правительства.
Самая зажиточная часть местного населения, по рассказам, недурно ладила с немцами. Эти люди держались обособленно, в разговоры с русскими не вступали, прятали скот и хлеб, чтобы уклониться от поставок Войску Польскому и ничего не продавать нам. Появились и спекулянты — они плодятся всегда и везде, где ощущаются экономические затруднения.
Необходимо было вести широкую разъяснительную работу в наших войсках, чтобы не допустить неправильной оценки отдельных нездоровых фактов и настроений, с которыми мы здесь встретились, чтобы наши люди не поколебались в своих взглядах и ни на минуту не забывали: все эти печальные явления результат политики той эксплуататорской верхушки, которая одинаково враждебна труженикам всех народов.
Как ни заняты мы были подготовкой к наступлению, в нашу политическую работу неизменно включалась и эта сторона — воспитание солдат в духе пролетарского интернационализма, укрепление дружбы с местным населением. Мы всячески поощряли помощь наших войск заселению. Солдаты помогали крестьянам в уборке картофеля и в других сельскохозяйственных работах. В труде люди лучше всего учатся понимать и уважать друг друга. Случалось нам не раз выручать поляков продовольствием или транспортом. Все это сближало местное население с советскими солдатами, укрепляло их дружбу.
Не могу не вернуться несколько назад и не рассказать, как я однажды совершил поступок, который был признан более чем сомнительным.
Находясь в глубоком тылу армии, в одной из частей, размещенной в прекрасном сосновом бору, я услышал рассказ офицера, уроженца Донбасса, только что получившего письмо от отца. Отец писал о горе шахтеров, вернувшихся домой после ухода немцев, описывал, как ходили шахтеры по развалинам шахт, по пепелищам своих поселков. Отец офицера, проработавший на шахте сорок лет, писал: «Сейчас самая большая трудность в восстановлении шахт заключается в остром недостатке крепежного леса. Лес к нам прибывает, но очень мало, так как с севера идут железнодорожные составы с другим грузом, еще более необходимым».
— Так напиши отцу, — сказал я, — пусть приедет сам или пришлет кого-нибудь к нам за лесом. Видите, сколько здесь леса? Будем рубить, будем грузить уходящий от нас порожняк и тем облегчим горе шахтеров.
Окружающие поддержали мое предложение, а офицер сказал: «Сегодня же напишу отцу».
За множеством дел я забыл этот разговор. Вспомнил о нем лишь тогда, когда мне доложили:
— Прибыла делегация из Донбасса.
Через минуту передо мной, вытянувшись по-солдатски, стояли три делегата. Двое из них были убеленные сединой кондовые шахтеры, десятки лет тяжелого труда оставили на их лицах глубокие морщины; третий был значительно моложе.
Я усадил их на табуретки, пригласил к себе члена Военного совета генерала Коннова, предложил делегатам закурить (сам я никогда не курил, но для особо симпатичных посетителей у меня всегда имелась пачка хороших папирос), попросил жену — она сопровождала меня по фронтовым дорогам — приготовить нам чай и завтрак.
Когда пришел товарищ Коннов, я познакомил его представителями Донбасса двумя рабочими и инженером, пригласил всех в столовую, познакомил там «повариху» — мою жену — с гостями, предложил ей зачислить их на довольствие, включая 100 граммов «жидкого топлива».
За завтраком гости рассказали о положении в Донбассе, об энергии, с какой советские люди взялись за восстановление разрушенного, несмотря на скудный продовольственный паек и недостачу самого необходимого. Несмотря на то что у рабочих не было красноречия, мы глубоко почувствовали горе Донбасса, так они своими простыми словами затронули наши сердца.
На мой вопрос: «Какой нам нужен лес?» — одновременно ответили все трое:
— Какой угодно, лишь был бы толщиной двадцать сантиметров и больше.
Дело было такое для них важное, что мне показалось, будто делегация в три человека очень уж мала, и я спросил:
— Что же вы приехали втроем?
Но они поняли меня иначе: что их делегация слишком велика. Они переглянулись между собой, как бы спрашивая один другого, кто будет отвечать на этот вопрос. Самый старший из них ответил:
— Мы слезы уже выплакали. Думали, что у одного не хватит слез, чтобы упросить вас помочь нам, вот мы и приехали не один, не два, а втроем.
Этот трогательный ответ нас сильно взволновал. В шутку, но сквозь слезы я сказал:
— Да, неважного вы о нас мнения, — и, обращаясь уже к члену Военного совета, спросил: — Ну, как вы думаете, Иван Прокофьевич, поможем шахтерам?
— Да, помочь бы надо. Но вот беда: категорически запрещено вывозить лес.
Об этом запрете я не знал и слышал в первый раз. Новость меня сильно озадачила. На лицах наших гостей было видно отчаяние. Какое-то время мы чувствовали себя, как на похоронах, и все молчали.
Я в это время думал: «Что же делать? Нарушить запрет — дело слишком плохое. Отказать шахтерам в их просьбе — тоже нехорошо». Я вспомнил, сколько вырублено у нас леса за войну, а здесь у меня перед главами были большие массивы спелого леса.
Обращаясь к члену Военного совета, я сказал:
— Иван Прокофьевич! Дело это необычное. Давай решим так: будем считать, что ты мне ничего не говорил об этом постановления, а я о нем не знаю. Лес мы срубим и отправим возвращающимся порожняком в Донбасс под видом, будто собираемся строить оборонительные рубежи в нашем тылу. На железной дороге никто на этот груз не обратит внимания, и лес благополучно дойдет до назначению. А если уж что и случится, всю вину я возьму на себя.
Коннов ничего на это не сказал, но еле заметно кивнул головой.
В короткий срок мы свалили необходимый лес, что был ближе к железной дороге. Погрузку производили главным образом между полустанками и разъездами. Только успели отправить около пятидесяти тысяч кубометров, как наступил час расплаты.
Мне доложили о прибытии другой «делегации» — но уже из Москвы. Трудно сказать, каким путем узнали там, — должно быть, через Военный совет фронта.
Прибывших из Москвы было тоже три человека. В штабе армии боязливым шепотом передавалась весть, что они явились по вопросу о лесе от самого Сталина.
Настало время уединиться с гостями и исповедоваться перед ними, как я дошел до жизни такой, что нарушил постановление правительства.
Перед началом объяснения я на какое-то мгновение подумал: бывает ведь и ложь во спасение. Но на ложь я не пошел.
Наша интимная беседа длилась четыре часа, я рассказал все начистоту, как было, начиная с полученного офицером письма. Рассказал о прибытии делегации. Сказал и о том, что генерал Коннов меня предупреждал, а я решил помочь шахтерам на свою ответственность. (Умолчал, конечно, лишь о кивке Коннова.)
Отвечая на вопросы, пришлось рассказывать всю мою биографию с детства — и о пребывании на Колыме, и об обвинении меня во всех страшных грехах тоже.