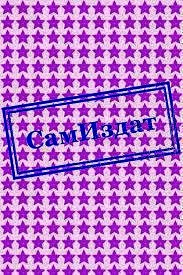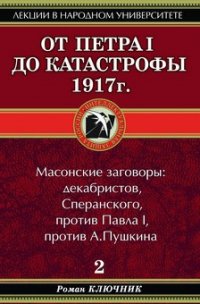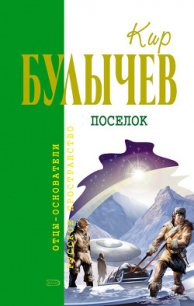Мои воспоминания (в 3-х томах) - Волконский Сергей (читать книги полные TXT) 📗
______________________
* Перечитывая эти строки теперь, через двадцать восемь лет после того, как они были написаны, должен прибавить, что это была первая моя робкая попытка печатно прикоснуться к вопросам свободы вероисповедания. Впоследствии я к ним подошел подробнее и смелее; но тогда у нас в России о них писать было почти невозможно, и наблюдение за американскими условиями давало удобную "ширму". Однако и эта скромная моя попытка вызвала неодобрения и нарекания; сильно ополчился в своей газете "Гражданин" известный представитель "охранительного" направления князь Мещерский. О том, как стояли эти вопросы в тогдашней России, как к ним относилось общественное мнение и представители государственности, говорю подробно в главах IV, V, VII и VIII следующей части моих воспоминаний ("Родина").
Вот почему нельзя было не радоваться всякой попытке сблизить людей, несмотря на существование перегородок; ибо, по выражению одного из армянских представителей в конгрессе, "религиозные разности, как ледяные стены, встают между людьми, но и, как ледяные же стены, они должны растаять под лучами любви". А любовь может жить во всяком сердце и согревать всякую душу, без различия племени, народности, сословия, религии. Подумайте, как низко должны были пасть преграды, разделяющие какого-нибудь методиста от пресбитерианца, когда они увидели рядом на одной платформе православного архиепископа с индусским монахом, католического епископа с китайским последователем Конфуция. Эти люди могли бы не говорить -- они были достаточно красноречивы своим совместным бытием; нам не случалось никогда видеть более яркого и простого изображения идеи в лицах. Словами Цицерона можно было о них сказать: "Тем, что они молчат, они кричат". Это было молчаливое, но громкое провозглашение единения, того начала единения, живущего в человеке, которое никакие теории не способны затоптать, никакие разделения не способны пресечь, того единения, которое прорвет покровы человеческих разностей, перешагнет через перегородки, делящие человеческую семью, рассеет недоверие, поддерживаемое ценою искажения истины, очистит человеческую совесть от ржавчины предубеждения, освободит душу от гнета духовной косности и, разогнав страх пред установившимся обычаем, откроет простор человеческой любви...
III
Таким представляется конгресс религий, если взглянем на него как на усилие, на результат известных стремлений. Нашему вниманию подлежали те побуждения человеческого духа, которые подвигнули людей собраться, следовательно, обусловили осуществление конгресса; перед нами выступили те силы, действие которых предшествовало собранию, так сказать, входящие силы конгресса. Посмотрим теперь, какая же его исходящая сила.
Мы сказали, что все эти люди различных племен, народностей, религий могли бы даже не говорить -- так они были красноречивы одним своим появлением. Но они не остались молча сидеть; и вот из разнообразия их речей, вызванных духом единения, стало обрисовываться присущее человечеству единство. Очевидно, что если один и тот же призыв мог оказаться достаточно сильным, чтобы поднять каждого из них в отдельности ради общего интереса, то и в природе каждого из них должна быть одна общая почва, в которой этот интерес коренится. Элементы единства, таким образом, представляются с двух сторон. С одной стороны -- присущая людской природе одинаковость, от которой, несмотря ни на какие личные, общественные, политические, религиозные обособления и уклонения, ни один человек не может уйти, пока живет на земле. С другой стороны -- единство как действующая в людях мыслительная сила, работающая над выделением из личного миросозерцания и проведением в жизнь таких правил человеческого общежительства, которые, несмотря на различия общественных, политических, религиозных законодательств, обеспечивают людям равноправие перед единым законом нравственным. В первом случае единство представляется как нечто данное, фундамент, на котором человечество живет; это то единство, которое нашло себе выражение в библейском указании на происхождение рода человеческого от Адама и Евы. Во втором случае единство -- не как данное, а как предписание, не как фундамент, а само здание, которое нашло себе выражение в евангельской притче о милосердном самарянине.
Вот те формулы, на которые мы можем расчленить понятие человеческого единства. В яркой обрисовке их, в провозглашении их с характером очевидности и обязательности заключается то, что мы назвали исходящей силою конгресса. Если мы из всего разнообразия произнесенных там речей выделим общее, одинаковое, перед нами неотразимо встанет принцип человеческого единства как истина, лежащая в основе их всех, как центр, в котором сливались все проповеднические усилия говоривших.
Но здесь надо заметить, что главная убедительная сила конгресса заключается не столько в том, что эти истины провозглашались собранием, сколько в том, что они как бы сами собой выделялись, исходили от него, даже как будто помимо стараний участников, независимо от текста речей, ибо с текстом той или другой речи можно было соглашаться или не соглашаться; те же соображения, которые мы привели выше, -- очевидность человеческого единства и обязательность проистекающих отсюда предписаний в отношениях людей друг к другу, -- прямо логически вставали перед сознанием всякого, без различия философской подготовки, даже умственного развития. Урок был тем сильнее, чем более был чужд преднамеренности. Ведь эти люди не сговаривались заранее, не готовили себе общей почвы; каждый говорил от себя и за себя, и совокупность впечатлений не являлась совокупностью усилий, напротив, разрозненность усилий привела к разоблачению единого общего начала человеческой природы и поставила людей лицом к лицу с теми сторонами их души, которые у них одинаковы, помимо той страны, где они выросли, тех звуков, в которых вылился их язык, тех рамок, в которые уложились их общественный и государственный строй, наконец, тех верований, в которых слились их понятия -- истинные или ложные -- о Творце вселенной и об отношениях к нему человека.
Японская пословица говорит: "Много тропинок ведет на гору, но, когда взберешься на вершину, все та же самая луна видна". Другой заслуги конгресса нечего искать: степень заслуги того или другого урока измеряется степенью потребности в нем; а вряд ли есть урок, в котором люди нуждаются больше, чем в уроке человеческого единства. Все развитие современного человека, весь строй современной жизни как бы направлены к тому, чтобы заставить забыть принцип единства. И вряд ли когда это забвение проявлялось с такой беззастенчивой, почти забавной наглядностью, как в первых заседаниях конгресса.
Никогда не забуду удивленных лиц в публике, когда впервые заговорили представители Востока. Люди в невиданных одеяниях, с бронзовым цветом лица, выходцы из сказочных стран, провозглашают начала взаимного уважения, проповедуют правила нравственности, понятия добра и зла, которые мы всегда считали своей исключительной собственностью; и их речь, красивая, картинная, увлекательная, придает какую-то совсем новую прелесть этим старым истинам. Только удивлялись слушатели не этой новизне, а всему тому знакомому, что эта новизна изобличала. Казалось, естественно было бы предположить, что присутствующие, скорее, заинтересуются разностями этих отдельных представителей, -- нет, открытие сходственных сторон было так неожиданно, шло до такой степени вразрез с обычными нашими понятиями о "ближнем" нашем, раз он иначе говорит и молится, чем мы, что все это на первых порах вызвало недоумение. Поразительно в людях незнание и забвение основных черт человеческой природы. Но еще более поразительно то, что, когда мы наталкиваемся на живые примеры, подтверждающие принцип человеческого единства, когда мы встречаем иноверца или иностранца, являющего те же самые свойства души, какие мы привыкли уважать в наших единоверцах и единоплеменниках, мы не только раскрываем удивленные глаза, но вместо того, чтобы устыдиться нашего незнания, нашей узости, наших предубеждений, мы в порыве какой-то умиленной снисходительности даруем ближнему наше одобрение, мы радуемся как открытию тому, что он на нас похож, тогда как нам бы следовало скорбеть о том, что мы забыли, что сами похожи на него и этим забвением уже в известной степени утратили права на сходство.