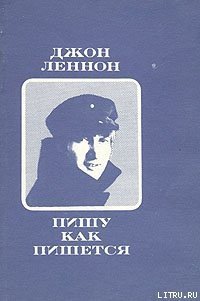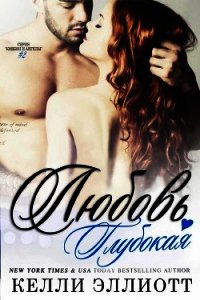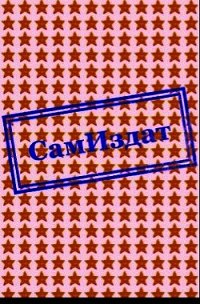На берегах Невы - Одоевцева Ирина Владимировна (серии книг читать бесплатно TXT) 📗
Я продолжал идти. Я продолжал произносить строчку за строчкой, будто читаю чужое стихотворение. Все, все до конца. Садитесь! Садитесь и слушайте!
Я сажусь тут же в кухне за стол, а он, стоя передо мной, взволнованно читает:
Это совсем не похоже на прежние его стихи. Это что-то совсем новое, еще небывалое. Я поражена, но он и сам поражен не меньше меня.
Когда он кончил читать, у него дрожали руки, и он, протянув их вперед, с удивлением смотрел на них.
– Оттого, должно быть, что я не спал всю ночь, пил, играл в карты – я ведь очень азартный – и предельно устал, оттого, должно быть, такое сумасшедшее вдохновение. Я все еще не могу прийти в себя. У меня голова кружится. Я полежу на диване в кабинете, а вы постарайтесь вскипятить чай. Сумеете?..
«Это ведь почти чудо», – говорил Гумилев, и я согласна с ним. Все пятнадцать строф сочинены в одно утро, без изменений и поправок.
Все же одну строфу он переделал. В первом варианте он читал:
Вместо:
и так далее...
Машенька в то первое утро называлась Катенькой. Катенька превратилась в Машеньку только через несколько дней, в честь «Капитанской дочки», из любви к Пушкину.
Догадка Маковского, что «Машенька» – воспоминание о рано умершей двоюродной сестре Гумилева, неправильна, как и большинство таких догадок...
Сам Гумилев очень ценил «Трамвай».
– Не только поднялся вверх по лестнице, – говорил он, – но даже сразу через семь ступенек перемахнул.
– Почему семь? – удивилась я.
– Ну вам-то следует знать почему. Ведь и у вас в «Толченом стекле» семь гробов, семь ворон, семь раз прокаркал вороний поп. Семь – число магическое, и мой «Трамвай» магическое стихотворение.
Он улыбался, и я не знала, шутит ли он или говорит серьезно.
«У цыган» было написано им дней через десять.
– Я все еще нахожусь под влиянием «Заблудившегося трамвая», – говорил он. – «Цыгане» одной семьи с ним. Но они, я сам знаю, гораздо слабее. Надеюсь все же, что мне удастся перемахнуть еще через семь ступенек. Конечно, не сегодня и не завтра, а через полгода или год – ведь «великое рождается не часто». Через полгода...
Кстати, о неправильных догадках. Тот же С. Маковский называл стихотворение Гумилева «Дева-птица» «запутанной криптограммой в романтически-метерлинкском стиле» и считал его чуть ли не центральным в поэзии Гумилева, тогда как это стихотворение действительно стоит особняком в творчестве Гумилева, но совсем по другой причине.
«Дева-птица» – единственное стихотворение Гумилева, написанное... по рифмовнику.
Гумилев неизвестно где раздобыл этот рифмовник – старый, затрепанный, в голубой бумажной обложке и со смехом читал его мне.
– Отличное пособие. Я им непременно как-нибудь воспользуюсь и вам советую.
Я выразила сомнение в том, что он им воспользуется.
– Не верите? Хотите пари держать, что я напишу стихи по этому рифмовнику? Ведь
а не то что стихи в рифмовнике.
Через несколько дней он, торжествуя, прочел мне «Деву-птицу».
– Вот видите, я сказал, что напишу, и написал! Вслушайтесь в качающийся, необычайный ритм. А началось с рифм: младенец – пленниц, прохладой – стадо, коровы – тростниковой, – я от них оттолкнулся и стал плести кружево, пользуясь все новыми готовыми рифмами: высокий – щеки, нагретой – браслеты, рифмоидом жальче – мальчик и так далее, а потом привел все в порядок, кое-что кое-где подчистил, и получилось совсем хорошо. И даже глубокомысленно.
Нет, по-моему, совсем не хорошо. Мне эта «Дева-птица» совсем не понравилась, в особенности
первого варианта.
Мы с Георгием Ивановым, Мандельштамом и Оцупом дружно осудили эту «Деву-птицу», будто сошедшую, по выражению Георгия Иванова, с картины Самокиш-Судковской. И даже посмеялись над ней – конечно, не в присутствии Гумилева, а за его спиной.
Но когда на следующем собрании Цеха Гумилев огласил свою «Деву-птицу», никто не только не осудил ее, а все покривили душой и превознесли ее.
Было это так: на собраниях Цеха, происходивших в Доме искусств, пили чай с пирожными-эклерами – ведь нэп уже начался.
Каждому члену Цеха полагалось по эклеру. Георгия Адамовича не было, и решили его оставшимся эклером наградить автора лучшего прочитанного стихотворения.
В тот вечер Мандельштам читал: «Я слово позабыл, что я хотел сказать», Георгий Иванов: «Легкий месяц блеснет», я – «Балладу об извозчике», Нильдихен – о двух с половинно-аршинной кукле, остальные – уже не помню что и о чем.
Голосование производилось поднятием рук.
И вот все руки, как по команде, поднялись за «Деву-птицу».
Все – за исключением одного Лозинского, голосовавшего за моего «Извозчика».
Вряд ли Лозинскому больше нравился мой «Извозчик», чем мандельштамовское «Я слово позабыл» или «Легкий месяц блеснет» Георгия Иванова, – вкус у него был безукоризненный. Лозинскому просто очень хотелось, чтобы пирожное досталось мне, единственной женщине в Цехе поэтов.
К стыду моему, и я не задумываясь подняла руку за «Деву-птицу» – так велик был престиж и власть громовержца-самодержца Зевса-Гумилева.
Никто из цеховцев при нем не мог даже
Гумилеву, впрочем, и в голову не пришло, что мы все занимаемся «подхалимажем». Наше голосование его ничуть не удивило, он принял эклер – как заслуженную награду. И съел его.
Я привела этот забавный случай с эклером как пример взаимоотношений между Гумилевым и нами всеми.
О причине гибели Гумилева существует много догадок, но, в сущности, мало что известно достоверно.
На вопрос, был ли Гумилев в заговоре или он стал жертвой ни на чем не основанного доноса, отвечаю уверенно: Гумилев участвовал в заговоре.
Да, я знала об участии Гумилева в заговоре. Но я не знала, что это был заговор профессора Таганцева, – ни имени Таганцева, ни вообще каких-либо имен участников заговора он мне никогда не называл.
О его участии в заговоре я узнала совершенно случайно.
Вышло это так.
В конце апреля я сидела в кабинете Гумилева перед его письменным столом, а он, удобно расположившись на зеленом клеенчатом диване, водворенном по случаю окончания зимы из прихожей обратно в кабинет, читал мне переплетенные в красный сафьян «Maximes» Вовенарга.
– Насколько они глубже и умнее, чем «Maximes» Ларошфуко. Это настоящая школа оптимизма, настоящая философия счастья, они помогают жить, – убежденно говорил он. – А вот пойдите, о маркизе Вовенарге у нас мало кто даже слышал, зато Ларошфуко все знают наизусть. Слушайте и постарайтесь запомнить: «Une vie sans passions ressemble ? la mort». [41] До чего верно!
Я, как я это часто делала, слушая то, что меня не особенно интересовало, слегка вдвигала и выдвигала ящик его письменного стола. Я совершенно не умела сидеть спокойно и слушать сложа руки.
41
Жизнь без страстей подобна смерти (фр.).