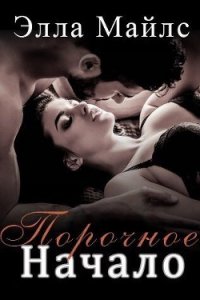Моцарт - Брион Марсель (книги без сокращений .TXT) 📗
Симфония Ля мажор Бетховена датируется 1812 годом. Что касается отношений между зальцбургским и боннским мэтрами, то у нас нет уверенности в том, что, как это порой утверждают, последний брал у Моцарта уроки. Мы знаем, что Бетховен, которому тогда было семнадцать лет, приехал в Вену в 1787 году, предшествовавшем сочинению трех вышеозначенных симфоний; он хотел стать учеником Моцарта. Но если они и встретились, что вполне вероятно, непохоже, чтобы плану Бетховена суждено было осуществиться, поскольку Моцарт был слишком занят, чтобы возиться с каким-то неизвестным юношей. Не вызывает сомнений одно: именно учитель Бетховена Неефе, обучавший его в Бонне, послал его к величайшему современному музыканту, которым сам Неефе всегда восхищался. И все же я не припомню никаких свидетельств, подтверждающих, что их встреча состоялась. Что же касается влияния Моцарта на Бетховена, то оно очевидно и глубоко ощущается в симфониях и квартетах. К тому времени, когда Бетховен в 1792 году возвратился в Вену, Моцарт уже умер. Содержание, которым он наделил свою музыку, имеет огромное значение. «Можно сказать, что в той же мере, в какой Флейта относится к области драматической, Реквием относится к области литургической. Он расчистил путь будущим поколениям музыкантов, — пишет Паумгартнер. — И так же, как Фиделио обусловлен Флейтой, Торжественная месса Бетховена почти немыслима без глубокого драматизма Реквиема».
В. Альберт обнаружил в Симфонии Ми-бемоль мажор глубокий пессимизм, аналогичный тому, что проявляется в Симфонии Ля мажор Бетховена, с которой, как мы только что видели, ее сравнивал Вагнер, и это мироощущение представляется нам одним из главных элементов романтизма, общего для Моцарта и Бетховена. Что же касается второй симфонии триптиха, соль минор, то Шуман, напротив, видел в ней самое оптимистичное, животворящее, солнечное излучение.
Шуман исповедовал настоящий культ Моцарта и глубоко чувствовал его подлинный романтизм. Напомним также, что в творчестве Иоганна Себастьяна Баха, которого мы сегодня воспринимаем как настоящего классика, Шумана поразил его романтизм, что лишний раз подтверждает, какое разное значение придается некоторым словам и терминам и какими двусмысленностями это чревато. Шуман считал Моцарта достойным фигурировать среди лигистов Давидсбунда, вымышленной ассоциации, призванной защищать романтизм от обывателей, то есть отсталых людей. Их обоих отличали любовь к природе, детству и некая твердая концепция жизни, одновременно идиллическая и драматическая; в своих критических эссе о музыке Шуман всегда говорит о Моцарте с пламенным восхищением. Но, упоминая имя Аполлона в связи с Симфонией соль минор, он делает акцент на греческом классицизме, с которым она, по его мнению, роднится, а не на романтизме в собственном смысле этого слова. В противоположность этому Эрнст Теодор Амадей Гофман, добавивший к именам, полученным при крещении, имя «Амадей», чтобы засвидетельствовать таким образом свое преклонение перед Моцартом и желание считать его своим «святым покровителем», с большой поэтической силой и музыкальной интуицией говорил о романтизме Моцарта. В Крейслериане он провел небезынтересную параллель между Гайдном, Моцартом и Бетховеном.
«Гайдн, — писал он, — романтически схватывает все человечное, что есть в человеческой жизни, для массы он более понятен, более доходчив. Моцарт скорее мэтр сверхчеловеческого, того чудесного, что живет в глубинах нашего рассудка. Музыка Бетховена заставляет сжиматься пружины страха, ужаса, страдания и пробуждает как раз ту самую бесконечную надежду, которая является сутью романтизма. Поэтому уместны вопросы: является ли он чисто романтическим композитором? Не потому ли он мало преуспел в вокальной музыке, которая не несет в себе неопределенной надежды, но лишь воспроизводит эмоции, выраженные словами, как эхо в царстве бесконечного?»
По этой «неопределенной надежде» — немцы переводят данное понятие словом Sehnsucht, — которому нет эквивалента во французском языке, Гофман действительно сродни Моцарту. Это видно по поэтико-критической транспозиции Симфонии Ми-бемоль мажор в Крейслериане, которая являет собой любопытный пример особенностей субъективной лирической критики, нередкой у романтиков, и в особенности у Шумана, критики страстной, я бы даже сказал — внушенной страстью, которая является скорее не рациональным суждением, но восторженным обобщением: «Моцарт вводит нас в глубины царства духов. Нас охватывает страх, но страх не мучительный, который, скорее, являет собой предвкушение бесконечного. Любовь и меланхолия поют добрыми голосами духов; ночь улетает в пурпурное зарево; и в какой-то невыразимой надежде мы через вечные сферы обращаемся к плавающим в облаках привидениям, которые дружески манят нас к себе».
Французские романтики, напротив, меньше отдавались процессу слушания, сохраняя свою критическую трезвость и отказываясь «теряться» — или «находить» себя — в музыке, которую слушали. Статьи, отчеты о концертах, опубликованные Гектором Берлиозом в «Газетт мюзикаль», не содержат этого страстного акцента и стремятся к объективности. Естественно, Берлиоз в суждениях о Моцарте опирается на всю свою культуру и музыкальные знания, но он не может удержаться от некоторой предвзятости, которая порой граничит с непониманием. Чаще всего от его внимания ускользает все, что есть у Моцарта глубоко драматичного. Его предубеждение в отношении музыки XVIII века, предубеждение чисто французское, принимающее слово рококо только в пренебрежительном смысле, мешает ему оценить Моцарта как явление и заставляет писать, например, следующее: «Вечер открыла Симфония соль минор Моцарта; это очень мелодично, очень тонко, проработано с большим тактом. Трио менуэта — шедевр наивной грации, которого никто не сможет превзойти. Я говорю трио, потому что сам менуэт возвращает слушателя к тем вольным шуткам, о которых я в свое время писал, выступая по поводу Гайдна». Использование слов «вольная шутка» в применении к Моцарту и Гайдну выглядит по меньшей мере удивительно и представляется совершенно неуместным, зато позволяет понять, почему французский романтизм с его недосказанностью, ограниченностью, напыщенностью, риторикой и даже с его анахронизмами, состоящими из старого хлама ложной готики и неоготики, оказался неспособным прочувствовать и понять подлинный, весьма органичный и очень чистый романтизм Моцарта.
Зато русский критик Александр Улыбышев, одновременно пылкий и трезвый приверженец культа Моцарта, написал в своем фундаментальном труде о жизни и творчестве мэтра, опубликованном в Москве в 1843 году, самые лучшие «лирические» комментарии о Симфонии соль минор, которые стоят в одном ряду со строго техническим анализом наивысшей пробы. Там, где Берлиоз не захотел увидеть ничего, кроме веселой грации, к тому же несколько декоративной, по мнению Улыбышева, как в симфонии, так и в Квинтете той же тональности выражены «волнение страсти, желания и сожаления несчастной любви, но выражены по-иному, и разница заключается в том, что здесь звучит жалоба, сокрытая на самом дне души, наполняющая грудь слушателя безграничной болью, которую невозможно сдержать, и, взрываясь перед лицом всего мира, она готова заполнить его своими стенаниями».
После Аполлона — Юпитер. Нарастание, которое наблюдается в последовательности симфоний «триптиха», подводит нас к главному шедевру, разумеется, при условии, что мы откажемся от понятия ложного классицизма, который превращает греческие божества в холодные мраморные изображения, лишенные души и жизни. Симфония До мажор, получившая ставшее традиционным название Юпитер, смущала слушателей и при жизни Моцарта вызывала меньше аплодисментов, чем две другие части трилогии. Критика того времени также была сдержанна, будто боясь того, что было в этом произведении слишком «современным», слишком романтичным, одним словом, превосходящим границы восприятия любителей и знатоков. Они не выказывали ни своего одобрения, ни восхищения по той причине, что то, что они слышали, было для них слишком ново; как сказал Сен-Фуа, «до восхода солнца 10 августа 1788 года не рождалось ничего столь важного и возвышенного; ни в оркестре, ни в каком-либо центре камерной музыки никто ничего подобного никогда не слышал». Моцарт слишком опередил вкус и общую чувствительность публики, чтобы можно было ожидать справедливой оценки основных достоинств этого поистине потрясающего произведения, которое и не могло быть встречено иначе аудиторией XVIII столетия, неспособной найти этому магистральному произведению место в общем потоке нарождавшегося тогда романтизма.