Жизнь – сапожок непарный. Книга первая - Петкевич Тамара Владимировна (читаем полную версию книг бесплатно TXT, FB2) 📗
На диспутах «О любви и дружбе» я отстаивала веру в великую любовь и великую дружбу. Вопрос: «А что, если друг или любимый человек изменит, предаст?» – воспринимался как подножка. Я даже не искала ответа, поскольку такие «закавыки» расшатывали мои романтические представления о жизни. Мы и не подозревали, насколько близко время, когда именно на эти вопросы придётся отвечать по существу.
С приходом в школу комсорга моя общественная деятельность стала особенно активной. Как делегата меня стали посылать на районные и городские конференции. Перед ноябрьскими праздниками 1936 года сказали, что в Смольном на моё имя выписан специальный пропуск: я удостоена чести стоять на трибуне в день парада. Взволнована этим была не только я, но и родители. Увиденные 7 ноября с трибуны парад и демонстрация закрепились в сознании как зримый образ мощи, согласного и радостного единства людей.
Пыл юности, заносчивый подъём помыслов, вера в завтрашнее торжество всеобщей справедливости, о чём так часто говорил отец, стали не только «дымом» возраста, но и насущным духовным хлебом из-за испанских событий. Как живой язык пламени, испанская война прожгла географическую карту, приковала к себе сердца и мысли. Имя Долорес Ибаррури, провозглашённая ею формула: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» – импонировала необычайно. Я верила в то, что «Но пасаран!» – преграда любой несправедливости, и следила за событиями в неистовом ожидании победы. В Испанию уезжали мужчины-идеалы, мужчины-герои. Я была влюблена в этих героев. Восхищение добровольно уезжавшими на войну принимала за личную причастность к событиям.
Ленинградские семьи охотно разбирали смуглых ребятишек, прибывавших из Испании. И это также было прекрасно, человечно и празднично. Да, все мы, живущие на земном шаре, – одна семья; победа Народного фронта не за горами.
Посещение Дома политкаторжан, куда меня отец брал с собой, идеи интернационального единства, привитые им, убеждение, что в жизни не должно быть места неправде, как нельзя лучше дополняли одно другое.
Меня волновала мысль, что, оказывается, и сегодня, сейчас – а не только в легендарные времена Жанны д’Арк – можно совершать великие подвиги, геройски сражаться и погибать за идеалы свободы и братства. Испания сблизила мечту и реальность. Это было самое потрясающее чувство, испытанное мною в те годы.
Патетическое ожидание победы, однако, постепенно теряло остроту. О событиях стали говорить глуше, путанее и туманнее, а потом вообще всё вокруг рассеялось. В душе осталось что-то похожее на невынутую занозу, которая сидела там много-много лет. Тем не менее война в далёкой Испании заставила меня с гораздо более осознанным интересом вникать во всё, что происходило и в моей стране.
Радио и газеты были непререкаемым авторитетом. Вера в газету равнялась безоговорочной вере в Правду и Справедливость, а ими – и только ими – вымерялась жизнь. Дело промпартии, скажем, представлялось поучительным романом или повестью. Рамзин, Хрусталёв и другие, верила я, действительно виновны. Их наказали, разъяснили ошибки, они сожалеют о своих заблуждениях и теперь делом доказывают, что впредь готовы служить народу. Примерно так же поверхностно судила и об оппозиции: «левая» ли, «правая» – было несущественно.
Впрочем, на безоблачное восприятие общественной жизни иногда наползал мглистый туман.
Один незначительный случай тех дней не пожелал уйти из памяти. Я из-за болезни не пошла на первомайскую демонстрацию. Рвалась. Переживала. Мама уступила в малом – разрешила постоять возле ворот дома. Мимо проезжали празднично разукрашенные грузовики с разного рода макетами, знамёнами, портретами вождей. С оркестром и песнями шагали демонстранты. С аэропланов сбрасывались листовки. Я подхватила одну из них: «И тот, кто сегодня не с нами, – было написано там, – тот против нас!» Слова резанули огульной недобротой. Поэтическо-политическая строка как-то впрямую относилась к тому, что я не в рядах шагающих в колоннах. Не вникая в причины, меня кто-то уличал, даже обвинял. Праздничный настрой померк.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Не много у меня было доверительных бесед с отцом. Но одну из них я хорошо запомнила.
Каждый комсомолец шефствовал над пионеротрядом. После проведения сбора, подражая любимому учителю литературы, я читала своим пионерам «Муму», страстно мечтая вызвать у подопечных такие же слёзы, какими плакала сама… Это удавалось. Я с охотой бегала на эти сборы. Но однажды, придя в назначенный час, увидела на своём месте другую пионервожатую, девочку из параллельного класса.
– Теперь я вожатая этого отряда, – без смущения сказала она.
Круто повернувшись, я ушла. Дома неутешно рыдала. «Кто её назначил вместо меня? Отчего со мной никто не поговорил? Почему меня не предупредили?» Я поделилась с отцом. Но вместо того, чтобы разделить со мной обиду, отец стал отчитывать меня:
– А кто дал тебе право неизвестно на кого бросить отряд и уйти? Ты разве знаешь эту девицу? А может, она – враг? Ты обязана была выяснить, в чём дело. Должна была бороться!
Не ведая, как следует себя вести в подобных ситуациях, я чувствовала какую-то правоту отца, но понятие «враг» и формулу «бороться» принять не могла. По моему разумению, бороться можно было за победу в Испании. Но в своей школе, отряде, среди учеников?.. Глагол «бороться» я отвергала ещё и потому, что он впрямую связывался с отношением отца ко мне. Наказывая меня, он «боролся» со мной.
Я уже привыкла жить с бабушкой, в известной степени отдалилась от родителей. Свою добрую и ласковую бабушку очень любила, хотя и мучила капризами: не сделаешь по-моему – не буду обедать; не позволишь пойти гулять – не сяду за ужин; не так сказала – вообще не притронусь к еде. Когда родители присылали нам провизию – творог, сметану, масло, – я, не задумываясь над тем, как тяжко это им достаётся, собирала своих подружек, и они в один присест уминали всё, что бабушка рассчитывала растянуть недели на две. История с гусями странным образом отложилась во мне. Я считала, что девочки вообще всегда голодны. Бабушка чуть не плакала, а отец, приезжая в город, опять «учил» ремнём. Поделом, конечно. Но я становилась старше и мучительное чувство стыда и унижения переносила трудно. С течением времени, правда, «кожаные изделия» сменил другой способ наказания.
Мне было уже шестнадцать лет, когда в школе разрешили на вечерах танцевать. До этого запрещалось. А тут вдруг объявили, что на школьном вечере будут не только танцы, но и вовсе – маскарад. Это было так романтично и ново, что наша фантазия разыгралась в полной мере. На нас с одной девочкой возложили обязанность поехать в театральные мастерские и отобрать там костюмы. С неописуемым энтузиазмом я рылась в кладовых, подбирая самые экзотические костюмы: арлекина, русские с кокошниками, цыганские, испанские. Себе выбрала польский костюм: казакин из голубого бархата, отороченный мехом, и белую бархатную юбку, расшитую серебром. Оформление квитанций задержало нас допоздна. До начала оставалось около получаса, когда, забежав домой, я налетела на маму:
– Дай скорей поесть!
Вот тут и возникло грозное папино:
– Как ты смеешь таким тоном разговаривать с матерью? Как смеешь требовать?
Снова отец был прав. Я тут же бросилась к маме просить прощения. Мама простила. Но папа был не в духе, и это решило дело.
– Никуда не пойдёшь, никаких маскарадов!
– Папочка, прости, я была не права. Разреши мне, пожалуйста!
– Нет.
Всё было кончено. Я знала, как неколебимо отец отстаивал своё слово. Доводы, что в школе никто не знает, как распаковать мешки с костюмами, тоже впечатления не произвели.
– Позвони и расскажи по телефону.
Плакали мои сестрёнки, просила за меня мама. Ничего не помогало. По времени маскарад был уже в полном разгаре, а я, опухшая от слёз, сидела взаперти. Сестрёнки доносили, что разговаривать с отцом пошёл мой дядя. Совсем уже поздно дяде-парламентёру удалось уломать отца, мне разрешили пойти, но за время этого сражения я так перемучилась, что уже и сама не хотела идти.
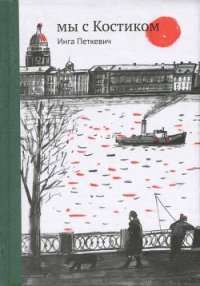


![[Первая книга Маккавейская] - Ветхий Завет (читаем полную версию книг бесплатно .txt) 📗](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)
