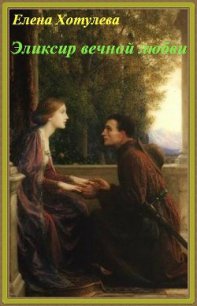Алмазный мой венец - Катаев Валентин Петрович (книги онлайн читать бесплатно .txt) 📗
…нет возврата!…
Этой картине должна была сопутствовать какая-то неземная, печальная музыка и какие-то слова, выпавшие из памяти.
Но какие?
Выпадение из памяти всегда мучительно. Вы слышите хорошо знакомую музыку, но как она называется – забыли. Идет хорошо вам знакомый человек, но его имя выпало из памяти. Распалась ассоциативная связь, которую так мучительно трудно наладить.
Я окаменел от усилия вернуть забытые, но некогда хорошо известные слова, вероятно даже стихи.
Вдруг все объяснилось. Наш гид произнес:
– Синьоры, внимание. Перед вами гротто Дионисо, грот Диониса,
…в тот же миг восстановилась ассоциативная связь. Молния озарила сознание. Да, конечно, передо мной была не трещина, не щель, а вход в пещеру – в грот Диониса. Я услышал задыхающийся астматический голос молодого птицелова – гимназиста, взывающего из балаганной дневной полутьмы летнего театра к античному богу:
«Дионис! Дионис! Дионис!»
«Там, где выступ холодный и серый водопадом свергается вниз, я кричу у безмолвной пещеры: Дионис, Дионис, Дионис!»
Теперь он был передо мной наяву, этот серый гладкий каменный водопад со входом в грот Диониса, откуда слышался тонкий запах выжатого винограда.
– Здесь, синьоры, – сказал гид в клетчатом летнем костюме, с нафабренными усами, – бог Дионис впервые выжал виноград и научил людей делать вино.
Ну да!
«Ты ушел в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград».
Я не удивился, если бы вдруг тут сию минуту увидел Опыленный пурпуровый плащ выходящего из каменной щели кудрявого бога в венке из виноградных листьев, с убитой серной на плече, с колчаном и луком за спиной, с кубком молодого вина в руке – прекрасного и слегка во хмелю, как сама поэзия, которая его породила.
Но каким образом мог мальчик с Ремесленной улицы, никогда не уезжавший из родного города, проводивший большую часть своего времени на антресолях, куда надо было подниматься из кухни по крашеной деревянной лесенке и где он, изнемогая от приступов астматического кашля, рубашке и кальсонах, скрестив по-турецки ноги, сидел на засаленной перине и, наклонив лохматую нечесанную го лову, запоем читал Стивенсона, Эдгара По или любимый им рассказ Лескова «Шер-Амур», не говоря уж о Бодлере, Верлене, Артюре Рембо, Леконте де Лиле, Эредиа, и всех наших символистов, а потом акмеистов и футуристов, о которых я тогда еще не имел ни малейшего представления, – как он мог с такой точностью вообразить себе грот Диониса? Что это было: телепатия? ясновидение? Или о гроте Диониса рассказал ему какой-нибудь моряк торгового флота, совершавший рейсы Одесса – Сиракузы?
Не знаю. И никогда не узнаю, потому что птицелова давно нет на свете. Он первый из нас, левантинцев, ушел в ту страну, откуда нет возврата, нет возврата…
А может быть, есть?
Раз уж я говорил о птицелове, то не могу не вспомнить тот день, когда я познакомил его с королевичем.
Москва. Двадцатые годы. Тверская.
Кажется, они – птицелов и королевич – понравились друг другу. Во всяком случае, королевич – уже тогда очень знаменитый – доброжелательно улыбался провинциальному поэту, хотя, конечно, еще не прочитал ни одной его строчки.
Разговорившись, мы подошли к памятнику Пушкину и уселись на бронзовые цепи, низко окружавшие памятник, который в то время еще стоял на своем законном месте, в голове Тверского бульвара, лицом к необыкновенно изящному Страстному монастырю нежно-сиреневого цвета, который удивительно подходил к его маленьким золотым луковкам.
…До сих пор болезненно ощущаю отсутствие Пушкина на Тверском бульваре, невосполнимую пустоту того места, где он стоял.
Привычка.
Недаром же Командор написал, обращаясь к Александру Сергеевичу:
«На Тверском бульваре очень к вам привыкли».
Привыкли, добавлю я, также и к старинным многоруким фонарям, среди которых фигура Пушкина со склоненной курчавой головой, в плаще с гармоникой прямых складок так красиво рисовалась на фоне Страстного монастыря.
Не уверен, что во время свиданий двух поэтов – птицелова и королевича – Страстной монастырь еще существовал. Кажется, его уже тогда снесли. Будем считать в таком случае, что в пустоте остался отсвет его бледно-сиреневой окраски.
Для людей моего поколения есть два памятника Пушкину. Оба одинаковых Пушкина стоят друг против друга, разделенные шумной площадью, потоками автомобилей, светофорами, жезлами регулировщиков. Один Пушкин призрачный. Он стоит на своем старом, законном месте, но его видят только старые москвичи. Для других он незрим. В незаполнимой пустоте начала Тверского бульвара они видят подлинного Пушкина, окруженного фонарями и бронзовой цепью, на которой, сидя рядом и покачиваясь, разговаривали в начале двадцатых годов два поэта и третий – я, их современник.
А Пушкин сегодняшний для меня лишь призрак.
Желая поднять птицелова в глазах знаменитого королевича, я сказал, что птицелов настолько владеет стихотворной техникой, что может, не отрывая карандаша от бумага, написать настоящий классический сонет на любую заданную тему. Королевич заинтересовался и предложил птицелову тут же, не сходя с места, написать сонет на тему Пушкин.
Птицелов экспромтом произнес «Сонет Пушкину» по всем правилам: пятистопным ямбом с цезурой на второй стопе, с рифмами А Б Б А в первых двух четверостишиях и с парными рифмами в двух последних терцетах. Все честь по чести. Что он там произнес – не помню.
Королевич завистливо нахмурился и сказал, что он тоже может написать экспромтом сонет на ту же тему. Он долго думал, даже слегка порозовел, а потом наковырял на обложке журнала несколько строчек.
– Сонет? – подозрительно спросил птицелов.
– Сонет, – запальчиво сказал королевич и прочитал вслух следующее стихотворение:
– Пил я водку, пил я виски, только жаль, без вас, Быстрицкий! Мне не нужно адов, раев, лишь бы Валя жил Катаев. Потому нам близок Саша, что судьба его как наша.