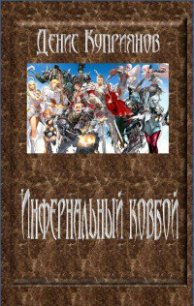Дневники - Бунин Иван Алексеевич (электронные книги без регистрации TXT) 📗
Приехали одиннадцатого.
Нынче прохладно. Еще по-ранневесеннему кричат грачи в глотовском саду на старых голых березах. Наш сад одевается. Зелень свежая, густая, мягкая даже на вид. На яблонях еще видны ветви, – не совсем еще опушились зеленью, особенно мягкой и сероватой (по сравнению с более зеленой и гораздо более яркой на кленах). Кисти сирени уже серо лиловеют. Густая трава усыпана голубенькими цветочками.
Весь день трезвонят на колокольне – лавочник Ив. Лаврентич нанял мальчишек и велел звонить с утра до вечера, чтобы прошел слух, что он, новый староста, чтит царские дни. Безобразит церковь, – обивает стены железом дикого цвета. «…»
Как дьявольски густы у некоторых мужиков бороды исподнизу! Что-то зоологическое, древних времен.
Царствие божье, радость внутри нас самих. Для радости порою надо удивительно мало. Бывало, в гимназии, зацепится у учителя панталона за заднее ушко штиблета, – какой смех!
20 мая 1911 г.
Молились о дожде мужики, потом Бахтеяров, было отдание Пасхи, Вознесение – по целым дням трезвон на колокольне. Так и свяжется в воспоминании эта весна с этим трезвоном. И станет все милым, грустным, далеким, невозвратным.
Был довольно молодой мужик из Домовин. Говорит, был 14 лет в Киеве, в Лавре, и хвастается: "выгнали за девочек, игумен поймал за работой… Я провиненный монах, значит". Почему хвастается? Думаю, что отчасти чтобы нам угодить, уверен, что это должно нам очень нравиться. Вообще усвоил себе (кому-то на потеху или еще почему-то?) манеру самой цинической откровенности. "Что ж, значит, ты теперь так и ходишь, не работаешь?" – "Черт меня теперь заставит работать!" В подряснике, в разбитых рыжих сапогах, женский вид, с длинными жидкими волосами, – и моложавость от бритого подбородка (одни русые усы). Узкоплеч и что-то в груди – не то чахоточный, не то слегка горбатый. "Нет ли, господа, старенькой рубашечки, брючишек каких-нибудь?" Я подарил ему синюю косоворотку. Преувеличенный восторг. "Ну, я теперь надолго житель!"
Ездили недавно в Скородное. Как чудесно! Был жаркий день, и какая свежесть и густота трав и зелени деревьев, какая прелесть полураспустившихся дубков! Великое множество мелких желтеньких цветов, – целые поляны ярко-желтые, – и желтых лилий, а больше всего все искраплено какими-то голубенькими, вроде незабудок. И уже много лиловых медвежьих ушек на их высоких стеблях.
Как-то вечером гуляли в Острове. Левитановские мягко-лиловые тучки, нежно-алые краски на закатном небе. И прелесть соединения свежести, сочности молодой зелени с запахом прошлогодней листвы. Необыкновенно тонкое время.
Вчера холод, осенние тучи. Ночь ледяная, с золотой крупной Венерой над закатом, с молодым месяцем.
Нынче ясно, весело, но ветрено и холодно.
Карпушка говорит вместо фокстерьер – фокстерьерц. Конечно, это гораздо более по-русски.
28 мая 1911 г.
Все последние дни лил дождь, холод ужасный.
Сейчас пять часов, резко потеплело. Заходила огромная лилово-синяя туча с юга, гремел гром. Против солнца она стала металлической, зелень сада на ее фоне необыкновенна. Мы с Колей смотрели к югу от людской. Глотовский сад, бахтеяровский, зеленая долина под Колонтаевкой – все образовывало чудеснейший пейзаж, теплый, весенний. Зелень кленов яркая, лозин и берез – нежная, бледная; на зеленях возле Колонтаевки – чуть синеватый налет. Прелестная серебристость старых тополей в лугу под глотовской усадьбой.
– Карпушка, а ты знаешь, что такое пейзаж?
Молчит.
– Ну что ж ты молчишь? Немой, что ли? Что такое пейзаж?
– А я знаю?
– Ну, все-таки? Помолчав:
– Лапша.
– Ты очумел!
– Ну матерком что-нибудь…
Стряпуха, его мать, ходила возле ограды, собирала в фартук желто-пуховых кривоногих утят, боясь нового дождя.
В церковной караулке часы часто останавливаются: мухи набиваются. Сторож бьет по ночам иногда черт знает что, – например, одиннадцать вместо двух.
5 июня 1911 г.
Настасья Петровна привезла в подарок Софье Петровне Ромашковой огромный белый платок, весь в черных изображениях черепов и костей, с черными надписями: "Святый Боже, Святый Крепкий".
Старуха Луковка; специальность обмывать покойников, быть при похоронах, и это уже давно, чуть не с молодости. "Сюжет для небольшого рассказа". На варке у нее одна овца. Хороша жизнь и овцы этой!
Мужик с култышкой (уродливый большой палец) и узким когтем вместо ногтя.
Ярыга, циник печник.
Дворянская близость с дворовыми и усвоенная, конечно, от них, дворовых, манера потешаться над собой, забавлять собой.
7 июня.
Приехал Юлий.
Первый хороший день, а то все лютые холода и проливные дожди.
8 июня.
Юлий привез новость – умер ефремовский дурачок Васька. Похороны устроили ему ефремовские купцы прямо великолепные. Всю жизнь над ним потешались, заставляли дрочить и покатывались со смеху, глядели, как он "старается", – а похоронили так, что весь город дивился: великолепный гроб, певчие… Тоже "сюжет".
Монахиня, толстая старуха, белое лицо обрезано черным клобуком; в очках, в новых калошах.
20 июня.
Третий день хорошая погода.
Вчера ездили кататься на Знаменское. Лощинки, бугор, на бугре срубленный лес, запах костра. Два-три уцелевших дерева, тонких, высоких; за листвой одного из них зеркальная луна бобом (половинкой боба). Ехали назад мимо знаменского кладбища – там старики Рышковы и уже Валентин с ними. А на кладбище возле Знаменской церкви – наши: дед, бабка, дядя Иван Александрович, на которого я, по словам матери, будто бы разительно похож.
Нынче опять катались, на Жадовку. Долгий разговор с Натахой о крепостной, старинной жизни. Восхищается.
3 июля.
Изумительно – за все время, кажется, всего два-три дня хороших. Все дождь и дождь.
Ездили с Юлием и Колей в Слободу.
Нынче опять был дождь, хотя клонит, видимо, на погоду. Сейчас 6 часов, светло и ветрено, по столу скользят свет и тени от палисадника. Речка в лугу как огромное ослепительное, золотое зеркало. Только что вернулись от Таганка, стовосьмилетнего старика. Весь его "корень" – богачи, но грязь, гнусность, нищета кирпичных изб и вообще всего их быта ужасающие. Возвращаясь, заглянули в избу Донькиной старухи – настоящий ужас! И чего тут выдумывать рассказы – достаточно написать хоть одну нашу прогулку.
Мужики "барские" называют себя, в противовес однодворцам, "русскими". Это замечательно.
Таганок милый, трогательный, детски простой [ 55]. За избой, перед коноплями, его блиндаж; там сани, на которых он спит, над изголовьем шкатулочка, где его старый картуз, кисет. Когда пришел, с трудом стащил перед нами шапку с голой головы. Легкая белая борода. Трогательно худ, опущенные плечи. Глаза без выражения, один, левый, слегка разодран. Темный цвет лица и рук. В лаптях. Ничего общего не может рассказать, только мелкие подробности. Живет в каком-то другом, не нашем мире. О французах слабо помнит – «так, – как зук находит». Ему не дают есть, не дают чаю, – «ничтожности жалеют», как сказал Григорий.
Говорит с паузами, отвечает не сразу.
– Что ж, хочется еще пожить?
– А бог е знает… Что ж делать-то? Насильно не умрешь.
– Ну, а если бы тебе предложили прожить еще год или, скажем, пять лет? Что бы ты выбрал?
– Что ж мне, ее приглашать, смерть-то? (И засмеялся, и глаза осмыслились.) Она меня не угрызет. Пускай кого помоложе, а меня она не угрызет – вот и не идет.
– Так как же? Пять лет или год?
Думает. Потом нерешительно:
В это время (3 – 8 июля 1911 г.) Бунин работает над рассказом "Сто восемь" (позднее названным "Древний человек"), в котором отразились впечатления от встреч с Таганком.