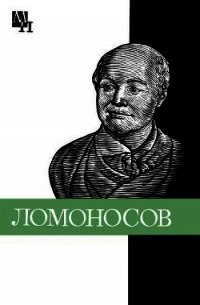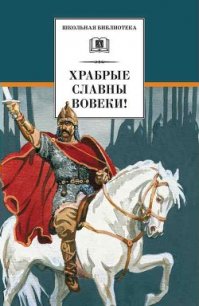Ломоносов - Лебедев Евгений Николаевич (читать книги без сокращений .TXT) 📗
Не исключено, что в прохладном отношении Ломоносова к сатирическому освоению действительности сказалось и его «мужицкое» происхождение (над которым, кстати, постоянно иронизировал тот же Сумароков). В народной среде, конечно же, любили и веселую шутку, и злое словцо. Но — на досуге. Когда идет работа, когда дело делается, «шутнику» (если он вздумает в это время отвлечь всех язвительными частушками и прибаутками) может сильно не поздоровиться.
Почти все русские поэты XVIII века считали свое творчество не только фактом собственной духовной биографии, но и делом государственной важности. Того требовало время. Тредиаковский, к примеру, из последних сил старался доказать, что все его творчество насущно необходимо России. А это не всегда соответствовало действительности. Россия, например, не нуждалась в той прокрустовой системе правописания («ортографии»), которую он предлагал ввести. Однако ж Тредиаковский ни на минуту не мог допустить мысли о ее общественной бесполезности и самый отказ следовать ей воспринимал едва ли не как досадный просчет во внутренней политике России. Также и Сумароков каждую свою оду рассматривал не больше не меньше как очередной законопроект, выносимый дворянством на утверждение государыни, а сатиру или басню как судебный вердикт, наказывающий носителей тех или иных пороков (то есть людей, ведущих себя антиобщественно). Отсюда — его борьба на грани исступления за то, чтобы общество жило в соответствии с его, Сумарокова, указаниями. Вот почему для его сатирической поэзии было смерти подобно нежелание порочного общества менять свои привычки, и он (как человек государственный) готов был даже отказаться от нее, лишь бы только порок понес достойное наказание. И вот в тот самый момент, когда катастрофический разрыв между мечтою и реальностью становится для него очевидным (то есть когда выяснялось, что его сатира утрачивает свои права над реальностью), мучительное переживание этого разрыва исторгало из его сердца поистине потрясающие стихи:
Эти строки (предвосхищающие пушкинские «Бичи, темницы, топоры») интересны тем, что Сумароков здесь свое «понятие вещей и их отношений» высказывает не косвенно, не «от противного», а прямо, положительно. Общественно полезная рекомендация исходит в данном случае уже не от сатирического, а от лирического поэта. (В связи с этим интересно напомнить, что почти все крупные русские сатирики XVIII века — Кантемир, Сумароков, Фонвизин — пережили в конце своего творческого пути тяжелейший духовный кризис, не в последнюю очередь связанный именно с односторонностью сатиры как средства художественного освоения действительности и воздействия на нее.)
Вот почему выдающейся заслугой Ломоносова следует признать то, что именно он сделал лирику (и оду как главный лирический жанр) полномочной представительницей гражданственного начала, которое в поэзии XVIII века было неотделимо от начала государственного. Здесь так же, как и во всем, проявилась исключительная самостоятельность Ломоносова-поэта.
В западноевропейской поэзии XVII–XVIII веков ода занимала довольно скромное место. Гораздо более общественно ценным жанром считалась сатира (так писал сам Никола Буало в «Поэтическом искусстве»!). В России автором сатир стал Кантемир, старательно следовавший в своем творчестве теоретическим заветам Буало и его поэтической практике. Однако, будучи человеком выдающегося ума и яркой индивидуальности, Кантемир умел придать своим сатирам самобытный характер. Он выступал в них не только как гневный публицист, обличающий невежество и мракобесие, по и как знаток общественных нравов, незаурядный педагог, тонкий художник-психолог, «искусный живописец людей порочных» (Жуковский). И все-таки сатира не стала в России тем, чем она была во Франции. Причин было несколько. Тут надо иметь в виду и то, что Кантемир даже после реформы Ломоносова — Тредиаковского упорно писал свои произведения силлабическим стихом, и то, что дипломатическая служба увела его за пределы России, а следовательно, он был оторван от литературной и общественной жизни страны, и то, что сатиры его при жизни не были опубликованы, а распространялись в списках. Но главною причиной была русская действительность, которая властно требовала от поэтов не одной лишь дискредитации отрицательных сторон жизни, но и утверждения новых идеалов на расчищенном уже пространстве. «Влияние Кантемира уничтожается Ломоносовым», — совершенно точно замечено у Пушкина.
Первую в России оду в полном соответствии с западноевропейскими образцами написал Тредиаковский (и здесь упредивший Ломоносова, но не победивший его). Вышла она отдельной книжкой в 1734 году и называлась «Ода торжественная о сдаче города Гданска». В ней Тредиаковский в качестве объекта для подражания выбрал оду Буало па взятие Намюра, канонизированную в Западной Европе как непогрешимый образец хвалебного жанра. Вот что писал Василий Кириллович по этому поводу: «Признаюсь необыкновенно, сия самая ода подала мне весь план к сочинению моея о сдаче города Гданеза; а много я в той взял и изображений, — да и не весьма тщался, чтоб мою так отличить, дабы никто не знал: я еще ставлю себе в некоторый род чести, что возмог несколько уподобиться в моей столь громкому и великолепному произведению... Что ж до моея, коль я ни тщался, однако, ведая мое бессилие, не уповаю, чтоб она столько ж сильно была сочинена, сколько Боалова, которой моя есть подражание. Довольно с меня и того, что я несколько возмог оной последовать».
При таком подходе наши поэты вряд ли когда-нибудь решили бы задачу создания новой лирической формы, в которой можно было бы отлить положительные идеалы новой русской жизни. Необходима была самобытная практическая разработка этой проблемы, что и сделал Ломоносов.
Не менее Тредиаковского начитанный в западноевропейской поэзии, Ломоносов не пошел по пути рабского подражания: он привлек к рассмотрению и отечественную традицию хвалебной, так называемой «панегирической», поэзии XVII (Симеон Полоцкий) и XVIII веков (Феофан Прокопович). Но гораздо важнее было то, что Ломоносов во главу угла поставил не умозрительные рассуждения (в чем и кому подражать, что и у кого заимствовать, что «привнести» от себя и т. п.), а ту сумму новых идей, творцом и выразителем которых он по праву себя считал. Именно это новое содержание, которое нес Ломоносов, само нашло свою форму, а встречающиеся в ломоносовских одах переклички с одами французскими и немецкими, с русскими панегириками отразились уже задним числом.
Итак, в собрании сочинений 1751 года торжественные и похвальные оды Ломоносова впервые были сведены им воедино. Вначале шли оды, посвященные Елизавете (1742, две 1746, 1747, 1748, 1751 гг.), затем оды, обращенные к Петру Федоровичу (1742, 1743), ода на бракосочетание его с Екатериной Алексеевной (1745), и завершалась вторая часть «Одой на взятие Хотина» (1739). Конечно, такое расположение было продиктовано соображениями придворного этикета, а не поэтической композиции. И все-таки удивительно: как удачно внешняя логика совпала здесь с логикой внутренней! Ведь вся эта часть собрания сочинений оказывается как бы объятой двумя программными произведениями Ломоносова — одой к Елизавете 1742 года и «хотинской» одой, о которых было уже достаточно говорено выше. В сущности, здесь все идейное и гражданское содержание, весь художественный мир этой части вращается вокруг оси, проходящей между этими двумя полюсами.
Образ огромной страны заполняет собою все поэтическое пространство торжественных и похвальных од. Россия у Ломоносова