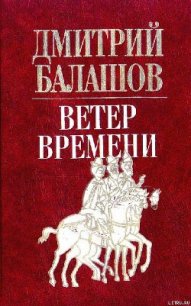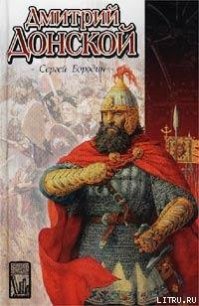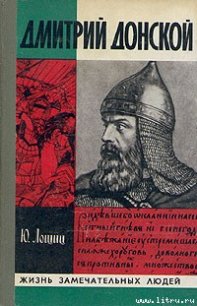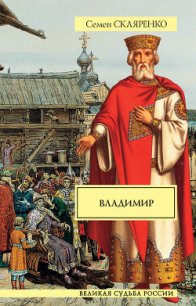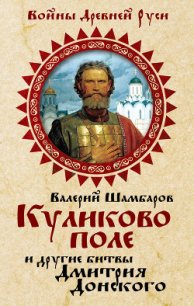Дмитрий Донской - Борисов Николай Сергеевич (электронные книги бесплатно TXT, FB2) 📗
Раскрывать все эти подробности своего путешествия в послании Сергию и Феодору Киприану не было никакого смысла. Во-первых, игумены и сами всё прекрасно знали. А во-вторых, послание было предназначено для прочтения и слушания широким кругом лиц. Соответственно, им следовало знать только то, что отвечало их разумению.
Ночной позор
Раздосадованный неудачей предпринятых им мер, а более — действиями Владимира Серпуховского, Дмитрий приказал арестовать самовольно явившегося в Москву «литовского» митрополита и его свиту. Но доводить дело до публичного скандала — а может быть, до ссоры с Владимиром Серпуховским — он по-прежнему не хотел. Короткой июньской ночью Киприан и его свита были вывезены из Москвы, а затем отконвоированы к литовской границе. Конечно, событие, в котором участвовали десятки человек, не могло долго оставаться тайной. Москва полнилась слухами об очередной княжеской выходке. Но официальные «средства массовой информации» той эпохи — московские летописи — хранят полное молчание о приезде «литовского» митрополита.
Исторический портрет Дмитрия Московского требует всех красок палитры. А потому отметим печальный факт: князь не отказал себе в удовольствии сорвать досаду издевательством над беспомощным пленником. Киприан в послании Сергию Радонежскому и Феодору Симоновскому весьма откровенно описывал произошедшее:
«Он же пристави надо мною мучителя, проклятого Никифора. И которое зло остави, еже не сдея надо мною! Хулы, и надругания, и насмехания, граблениа, голод! Мене в ночи заточил нагаго и голоднаго. И от тоя ночи студени и нынеча стражу. Слуги же моя — над многими злыми, что над ними издеяли, отпуская их на клячах хлибивых без седел во обротех (недоуздок, узда без удил. — Н. Б.) лычных, — из города вывели ограбленных и до сорочки, и до ножев (вид обуви. — Н. Б.), и до ногавиць (чулки. — Н. Б.), и сапогов и киверов не оставили на них!» (270, 196).
Итак, Киприан был не только выслан из Москвы, но и грубым образом унижен. А между тем это был поставленный патриархом митрополит Киевский и всея Руси. Его проклятия и отлучения могли неожиданным образом исполниться…
Но Дмитрий Московский, кажется, совсем не смущался этой стороной дела. Он не боялся проклятий иерархов — всю подноготную которых слишком хорошо знал — и выстраивал собственную линию общения с силами небесными.
И всё же издевательства над киевским митрополитом были неуместны не только с этической, но и с политической точки зрения. После такого приема восстановить добрые отношения с оскорбленным иерархом Дмитрию было бы крайне сложно. Уже достаточно искушенный в политике 27-летний московский князь должен был понимать, что расстановка сил быстро меняется, враги имеют способность превращаться в союзников и наоборот. Он должен был знать, что политик (как и полководец) всегда оставляет себе поле для маневра, предвидя возможность отступления. Но Дмитрий был своеобразный политик. Он действовал по первому порыву эмоций. В этом были его сила и его слабость. Безрассудство было проявлением его харизмы, его удачи. За эту непредсказуемость его любили в темном народе.
И судьба до поры до времени прощала своему любимцу безрассудство и своеволие…
Однако общую стратегию московской политики определял не только князь, и может быть не столько князь, сколько вся правящая элита, точнее — ее «сливки», которые со временем получат название Боярской думы. Этому сообществу в молодости не чужды были эмоциональные всплески и героические экспромты. Но с годами здесь смотрели на события с точки зрения холодного опыта, осторожности и здравого смысла. И могли твердо поставить предел причудам князя…
Хорошо забытое старое
В соответствии с быстро меняющейся политической обстановкой уже осенью 1378 года возникла необходимость отказаться от первоначального «митяевского проекта». В долгих совещаниях московской знати родился новый поворот церковно-политической интриги. В сущности, это было «хорошо забытое старое». Следовало вернуться к «заветам мудрой старины». В свое время владимирский епископ Алексей отправился с большим московским посольством в патриархию и, несмотря на происки «литовского» митрополита Романа, получил под свою власть почти все (кроме Галицкой) епархии митрополии Киевской и всея Руси. Ослабление Литвы после кончины Ольгерда и усиление Москвы после битвы на Воже позволяли вновь вернуться на этот перспективный путь. От идеи автокефалии Великорусской митрополии следовало перейти к стратегически более значимой программе — единой митрополии Киевской и всея Руси во главе с московским ставленником Митяем.
Но при таком устремлении власть Митяя как главы единой митрополии Киевской и всея Руси следовало подкрепить авторитетом константинопольского патриарха. Патриарх же мог поставить Митяя только при условии его личной явки в Константинополь и уплаты им весьма крупных сумм как в официальном, так и в неофициальном порядке.
Москва не хотела брать на себя все расходы и настаивала на общерусском характере данного проекта. Платить за поставление Митяя должны были все епархии. Такой подход, естественно, вызвал ропот среди иерархов. Достичь компромисса в этом вопросе можно было только на соборе. Этот второй «митяевский» собор и состоялся в Москве менее чем через год после первого собора — весной 1379 года…
Суздальский мятежник
В «деле Митяя» важную, хотя и не вполне понятную роль играет суздальский владыка Дионисий. Полагают, что этот иерарх по образу мыслей был близок Сергию Радонежскому. Его биография мало известна. Считается, что он был постриженником Киево-Печерского монастыря. Однако это мнение не имеет прочных оснований (103, 32).
В середине XIV века Дионисий основал Печерский монастырь в Нижнем Новгороде. Как и Сергий, он стремился к обновлению русского монашества, к распространению общежительных монастырей. В своей обители Дионисий воспитал нескольких видных подвижников, среди которых наиболее известным был «старец» Евфиадий — основатель Спасо-Евфимиева монастыря, огромные стены и башни которого и доныне служат главной достопримечательностью Суздаля.
Нижегородские книжники не жалели хвалебных эпитетов в адрес Дионисия.
Разумеется, не следует путать икону с портретом. В жизни Дионисий далеко не всегда был тихим и смиренным. Скорее напротив: это был один из самых беспокойных русских владык своего времени. Прибыв в Москву на собор, созванный для поставления Митяя в епископы, а также для сбора средств на его поездку в Константинополь, Дионисий привез с собой настроения Нижнего Новгорода и Суздаля. Там вовсе не желали превращения митрополичьей кафедры в послушный инструмент московской политики. Местные князья, хорошо помнившие митрополичий интердикт 1365 года, понимали, чем грозит им такое развитие церковных отношений.
В «Повести о Митяе» линия Дионисия Суздальского является побочной, но необходимой с литературной точки зрения. Он нужен для обличения гордыни и самодовольства Митяя. Но с тоски зрения здравого смысла поведение суздальского владыки выглядит более чем странным. Складывается впечатление, что он явился на собор только для того, чтобы обличить Митяя как узурпатора и временщика. Крутой разговор Дионисия с Митяем, вероятно, носит чисто литературный характер. В таком театральном стиле выступают герои византийской агиографии — Отцы Церкви, яростно обличавшие еретиков.
Согласно «Повести», Дионисий, прибыв на собор, сразу повел себя вызывающе. Он демонстративно выказал пренебрежение к Митяю, не явившись к нему с поздравлениями по случаю фактического прихода к власти. При встрече между епископом и нареченным митрополитом произошел крутой разговор. Упрекнув суздальского владыку в непочтительности, Митяй надменно заметил:
— Не веси ли, кто есмь аз? Власть имам по всей митрополии?
— Не имаши на мне власти никоея же, — возразил Дионисий. — Тобе бо подобает паче приити ко мне и благословитися и предо мною поклонитися, аз бо есмь епископ, ты же поп.