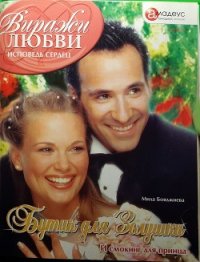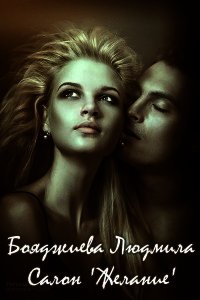Булгаков и Лаппа - Бояджиева Людмила Григорьевна (смотреть онлайн бесплатно книга txt, fb2) 📗
— Что значит «невозможно»? Ультиматум? Татьяна, ты в своем уме? Я вовсе не злодейка, разбивающая молодые сердца, но гимназисты не женятся! В нашем кругу мужчина должен получить образование, занять положение в обществе, чтобы суметь обеспечит семью, и тогда уже тащить девушку под венец!
— Тетя, пойми, мы не можем жить отдельно. Совсем. — В глазах Таси сверкнули и покатились по щекам слезы.
— Инстинкты разбушевались, вот в чем дело, дорогая моя! Думаешь, я не понимаю?! И слезы тут не помогут. — Она провела пальцем по столешнице красного дерева, проверяя пыль. — Да-да — инстинкты! Цивилизованный, а тем более интеллигентный человек должен уметь управлять животными инстинктами.
— Они не животные. Они человеческие! Да, человеческие! И не надо нам вашего разрешения! — Тася вылетела из комнаты. В передней хлопнула дверь.
«Однако! Могу вообразить, что будет у Булгаковых. Даже у меня голова трещит. Надо немедленно принять пирамидон. И заставить Глашку повнимательней вытирать пыль!»
8
— Тася, ты ела что-нибудь? Вид замученный какой-то. — Он притянул ее за руки, тревожно вгляделся в глаза. Они встретились в сквере на Владимирской горке. Миша успешно сдал последний экзамен, Тася все еще была под впечатлением разговора с тетей Соней. А главное — у нее разболелась голова. Приступы мигрени мучили Тасю с детства.
— Я не хочу есть. Только… — Она колебалась, рассказать ли Мише о своем разговоре, и решила отложить на потом. — Только настроение печальное. Скажи, Мишенька, мы ведь не расстанемся? — Подбородок задрожал, и она с трудом сдержала слезы. — Даже если все будут против нас?
— Ты совершенно глупая девчонка, если можешь сомневаться в этом. — Он поцеловал ее и, отстранив, оглядел с головы до ног. — Самое страшное на свете — это трусость и предательство.
Одежда Таси выглядела буднично: коричневая узкая юбка до щиколоток, блузка в бежевую полосу. И коса скручена низко на затылке — просто, по-домашнему.
— Знаешь, ты сейчас похожа на послушницу. Бледная и печальная… И это очень кстати. Сегодня я хочу показать тебе что-то важное. Видишь вон то круглое здание неподалеку от Александровского костела? Давай руку, пошли, и пока ни о чем не спрашивай, мне важно первое впечатление.
В круглом павильоне было прохладно и тихо. Тася осмотрелась и обмерла: они стояли среди раскаленных песков перед поднимающейся к предгрозовому небу Голгофой. У горизонта в прозрачной дымке виднелись белые стены и башни Иерусалима, впереди, как бы продолжая картину, лежали в песке остатки бедуинской кибитки, валялись какие-то черепки, разбитые кувшины, под иссохшей пальмой виднелись верблюжьи и ослиные скелеты, на которых сидели вороны и орлы-стервятники.
А вдали, тоже словно в дымке, стояли три креста с распятыми телами — Христа и двух разбойников. Падающий сверху свет окутывал худое окровавленное тело Христа мягким ореолом, приковывая к нему взгляд. С горы спускалась извилистая каменистая дорога, а на ней застыла сгорбленная фигура.
— Иуда! — шепнул Михаил. — Когда я попал сюда первый раз — мне было лет восемь. Отец привел меня и рассказал библейскую историю казни Христа. Я долго жил этим впечатлением.
— Мне тоже как-то жутко… — тихо промолвила Тася. — Кажется, что казнь настоящая и мы в самом деле стоим в той, древней толпе.
— Здесь я бы поместил еще Левия Матвея и прокуратора Иудеи Понтия Пилата… Не спрашивай, потом объясню. — Михаил впал в задумчивость, и, когда они вышли на свет летнего дня, на его лице все еще горели отблески зарниц далекой иерусалимской грозы и какой-то важной, целиком завладевшей им мысли.
— Пилат должен быть непременно… Могучий, непобедимый Пилат — он попал в западню, разрешив казнь пророка. И знает уже, что до скончания веков будет нести клеймо убийцы. Такой… такой великолепный и жалкий. Маленькие злые глаза, в которых поражение и боль…
— Мы придем сюда еще? — Тася тронула его за руку.
— Да, Тася, много раз…
Они шли тенистыми переулками, пронизанными вечерними лучами. Изломанное солнце играло в распахнутых окнах домов, заливало яркими красками цветники за оградами. Шипели шланги в огородах, пахло укропом и скошенной травой.
— О чем ты думаешь, Миша? — решилась нарушить молчание Тася.
— Об этом вечере и том страшном дне… обо всем…
— Я читала о Киевской панораме, но даже не могла представить… что это так… так… Ну будто я побывала там, у Голгофы…
— На всех действует сильно. Панорама открылась в тысяча девятьсот втором году. Живописное полотно расположено по кругу. Размеры громадные — высота тринадцать метров и длина девяносто четыре. Его написали три художника для венской выставки тысяча восемьсот девяносто второго года. Над выделкой бутафории, чучел трудились отличные мастера, потому все и кажется живым. Вена была поражена. Но на выставке тогда случился пожар, и панорама пострадала. Ее реставрировали и перевезли сюда. Построили специальный круглый деревянный павильон диаметром больше тридцати метров. Представь, какая громада, если манеж цирка всегда не больше тринадцати метров. Народ повалил семьями, а гимназистов водили целыми классами. Я приходил много раз… И каждый раз печаль обрушивается снова, и какие-то мысли крутятся, крутятся… — Он посмотрел на Тасю и только теперь заметил, как тяжело прикрыты глаза веками и побледнели плотно сжатые губы. — Что с тобой?
— Не хотела говорить. Голова болит. У меня так часто бывает. Только одна половина прямо разламывается, и никакие лекарства не помогают.
— Мигрень!.. Бедная моя.
— Ничего, пройдет. Давай помолчим, ладно?
Тася написала письмо домой, рассказав, что познакомилась с интересным молодым человеком, которого, по сути, можно считать ее женихом. Очевидно, родители получили одновременно письмо и от тети Сони с соответствующими комментариями. Незамедлительно пришла телеграмма с распоряжением немедленно вернуться домой.
Кончался июль, и пара Миша — Тася стала совершенно неразлучной. Телеграмма из Саратова оказала действие внезапно разразившегося землетрясения. Мир влюбленных — бесконечно радостный и благостный — рушился, открывая устрашающую правду. Пришлось признаться себе, что мать Миши, скорее всего, не одобряет увлечения сына, что родители Таси призывают ее домой, дабы оторвать дочь от пагубного влияния «интересного молодого человека». А как расстаться? Жить врозь немыслимо. Но вот приобретены билеты, и однажды и впрямь дождливым, словно осенним, днем, Тася стояла за открытым окном того же вагона, в котором в мае прибыла в Киев. Тот же костюм, тот же проводник, та же сутолока вокзала. Но теперь в окропленное дождем окно смотрела не испуганная гимназистка, а юная женщина, переполненная любовью и горем разлуки. На платформе с перекошенным, как от зубной боли, лицом застыл Миша — мокрые вихры, потемневшая от воды синяя фуфайка, отчаяние в посветлевших глазах. Последние минуты перед отправлением подобны ожиданию выстрела. Приговоренные к разлуке, они окаменели, даже не решив вопроса — как жить врозь и возможно ли?
Колокол возвестил отправление. Состав дрогнул.
Тася не плакала — положила на стекло ладони, беззвучно проговорила:
— Май кончился.
— Нет. Он будет всегда! — хрипло прокричал Михаил и распластал свои ладони поверх ее, отделенных мокрым стеклом.
Прошел по вагону кадыкастый проводник, тряся звонком и предупреждая об отправке. Поезд замер на секунду и мягко пошел, набирая скорость. Михаил не побежал за вагоном, пропал в толпе.
Тася закрыла глаза и, чтобы как-то удержать себя от мучительного желания взвыть во весь голос, принялась мысленно строчить первое письмо: «Наш май будет всегда… Всегда, любимый…»
Михаил тупо смотрел на мелькающие вагоны. Проплыл мимо тамбур последнего с железнодорожником, держащим флажок. Михаил сорвался с места и отчаянным рывком догнал вагон. Подножка была поднята. Проводник с ужасом смотрел на парня, пытавшегося вскарабкаться на металлическую ступеньку, на его руку со вздувшимися жилами, вцепившуюся в поручень. И бубнил как заведенный: «Не велено! Не велено на ходу садиться…»