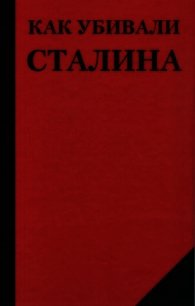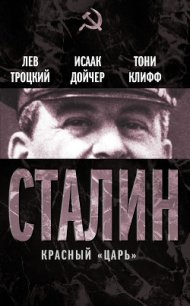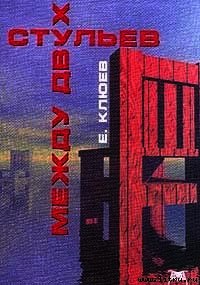Бабий яр - Кузнецов Анатолий (читать книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Участковый милиционер Вася Кузнецов все приходит да приходит: то улица плохо подметена, то домовой номер надо сменить. Короче говоря, когда Василия избрали членом Киевского горсовета, дед решил, что такой зять вполне подходит: они, горсоветчики, для себя все достанут.
Как же он ошибся!
Это была одна из крупнейших ошибок деда в жизни. Он потом до самой смерти не мог простить зятю того, что он ничего в дом не нес, и даже когда дед ходил в милицию на перерегистрацию подворной книги, ему приходилось сидеть в очереди на прием к своему зятю, как и всем прочим. Василий Кузнецов был большевик.
[И он тогда был честный большевик. Таких, как он, в 1937 году отправляли в лагеря либо на тот свет под их же ошалелые крики «Да здравствует Сталин»!]
Он был настоящий русак, курский, в 1917 году стоял у станка, когда подошел дружок: «Васька, вон записывают в Красную гвардию. Пишемся?» – «Пишемся!» – сказал Василий и пошел.
Он громил буржуев, вступил в партию в 1918 году, партизанил на Украине, стал командиром пулеметчиков и под командой Фрунзе брал Каховку, брал Перекоп и сбрасывал Врангеля в Черное море.
Он казался мне необыкновенным человеком, [и слово его было для меня свято. Однажды мама решила учить меня английскому языку. Мы сидели за столом, когда вошел отец. Посмотрел, как я заучиваю «мазе», «фазе», говорит возмущенно матери: «Это что такое? Буржуйскому языку ребенка учишь? Прекратить!» И прекратили.]
Иногда он очень здорово пел красивым баритоном, хохотал, но почему-то никогда ничего всерьез не рассказывал.
– Ну, как же вы там в Крыму босяковали? – спрашивал дед.
– А что? – смеялся отец. – В Крыму хорошо, вина много. Прогнали Врангеля и буржуев, все винзаводы – открыты. Мы к чанам. Гляжу: один уже плавает в вине по уши, как есть – с пулеметными лентами и в сапогах. Тут я с братвой поспорил на маузер, что выпью четверть портвейна.
– Три литра? – ахал дед.
– И выпил.
– Ну вот, что от них, пропойц, ждать? – плевался дед. – Пропили Россию. Ты скажи, что тебе твоя революция дала, голодранцу?
– А меня представили к ордену Красного Знамени, – хвастался отец. – Это были самые первые ордена, только ввели, Фрунзе представили и еще кое-кого. А мы в то время гор-рячие были, непримиримые. Шумим: «При царе были ордена, а теперь опять эти висюльки? Может, и погоны введете? Мы не за висюльки кровь свою проливаем». Я взял и отказался. Мне комиссар говорит: «Из партии погоним». Я в бутылку: «Пошли вы к такой матери, значит, если вы такая партия». И исключили.
– Господи! А как же ты сейчас партеец?
– А я потом обратно заявление подал. Восстановили. А орден уже не дали.
– Ох, дурак! – всплескивал руками дед. – Ты б по нему деньги получал. А так что у тебя есть, одни единственные штаны милицейские.
Отец, действительно, вышел из гражданской войны гол, как сокол. [Демобилизовав, его направили в Киев, служить в милиции. По пути в поезде он крепко выпил и сел играть в очко. Не доезжая километров сто до Киева, он проиграл все, проиграл свою командирскую форму и остался в одних кальсонах. Сердобольный дежурный на каком-то полустанке пожертвовал ему ветхое тряпье с лаптями в котором бывший командир пулеметчиков и предстал перед начальством в Киеве. Ему выдали форму, и начал Василий бороться против спекуляции и за чистоту улиц.]
Мама и бабка любили его, заботились наперебой, у них он скоро отъелся, похорошел, и наконец общими силами справили ему первый костюм, которым дед его при всяком удобном случае попрекал.
У отца было два класса приходской школы образования. Он пошел на рабфак, закончил его вечерами, бросил милицию и поступил в Политехнический институт.
Ночами он сидел над чертежами. Его надолго оторвали – послали под Умань проводить коллективизацию. Мама ездила к нему и возвращалась в ужасе. Потом он защищал диплом и взял меня на эту защиту. Когда он кончил, ему аплодировали. Он стал инженером-литейщиком.
Тут они стали срезаться с дедом всерьез. Отец гремел:
– Зарываешься, тесть, бузу мелешь, оскорбляешь революцию! Ты посмотри: твоя дочка выучилась, зять выучился, работа есть, спекуляции нет, конкуренции, обмана, а то ли еще будет.
– Ты разу-умный, – ехидничал дед. – А ты позволь мне десять коров держать и луг дай под выпас.
– Луг колхозный. Любишь коров – иди в колхоз.
– Да-да! Сам иди в свои каторжные колхозы!
К этому времени вовсю пошли и нелады отца с матерью. Там была другая причина – ревность. Мама была очень ревнивая. Я тогда ничего не понимал, ощущал только, что характеры у папы и мамы ого-го. В доме начались сплошные споры да слезы.
И вдруг я от бабки узнал, что отец с матерью уже давно съездили в суд и развелись, только расстаться никак не могут. Наконец, отец взял под мышку свои чертежи и уехал работать на Горьковский автозавод, где вскоре женился.
[Это случилось как раз в 1937 году, и я много думал потом, почему моего отца, такого непримиримого, миновала чаша та. Член партии в те времена мог избежать ее только двумя путями: либо молчать, либо доносить на других. А отец вдруг стал на ГАЗе начальником литейного цеха, получил квартиру, машину... Но это из писем. Такого отца я уже не знал.] Мама [запрещала с ним переписываться, но] продолжала любить его всю жизнь и никогда больше замуж не вышла.
Когда началась война и стало ясно, что немцы войдут в Киев, мать, однако, послала отцу несколько отчаянных телеграмм, чтобы он принял нас. Но ответа на них не пришло.
Мать истерически плакала по ночам. Бабка утешала:
– Да ничoго, ничoго, Маруся, проживем и при немцах.
– Что я буду делать при немцах? – говорила мать. – Учить детей славить Гитлера? То учила славить Сталина – то Гитлера? Возьму Толика и поеду, будь что будет.
– Мы ж без тебя пропадем... – плакала бабка. Это верно, вся семья держалась на маминой зарплате. Она была гордая, не хотела подавать на алименты на отца, лишь незадолго перед войной дед ее все-таки донял, и нам стали приходить переводы из бухгалтерии ГАЗа, война их оборвала.
Мама вела два класса в обычной школе, но часто ей удавалось подрабатывать еще и в вечерней для взрослых. Ей разрешали, потому что она была старательной, талантливой учительницей. [Много раз ее собирались наградить, но никогда даже самой крохотной премии ей не дали, как беспартийной. Только на словах хвалили да подгоняли. Знакомые же ее учительницы, вступившие в партию, и на курорт бесплатно ездили, и орденами сверкали. Иная уде такая бездарь, бревно-бревном, класс развалила, ничему детей научить не может – а ее в депутаты, в президиумы... А класс отдают матери, чтоб восстановила, и мать сидит дни напролет с детьми, сидит ночи над тетрадями. Но в партию она не пошла, для нее это было просто дико.
Детям она отдала всю жизнь, а к себе относилась, как монахиня.] Иногда ее ученики-вечерники, взрослые усатые дяди, рабочие, приходили к нам женихаться. Дед их очень любил, потому что они приносили колбасу, консервы, выпивку, он с ними толковал, заказывал достать гвоздей или белил, а мама сердито сидела минуту-другую и уходила спать. Женихи скисали и исчезали.
Последнее время мать дежурила в пустой школе возле телефона – на случай воздушных тревог, зажигательных бомб. Учителей в организованном порядке не эвакуировали, мы сидели на чемоданах, но уехать так и не смогли, и мать встретила немцев с ужасом, не ожидая ничего хорошего.
Кот ТИТ – мой верный друг и товарищ, с которым прошло все мое детство. Я подумал и решил, что погрешу против правды, если не упомяну и его как члена нашей семьи. По крайней мере для меня он таковым был всегда, и он сыграл в моей жизни немаловажную роль, о чем будет сказано дальше.
Кот Тит был старый, душевно ласковый, но внешне весьма сдержанный и серьезный. Фамильярностей не любил и очень чутко различал, кто к нему относится действительно хорошо, а кто только сюсюкает и подлизывается.