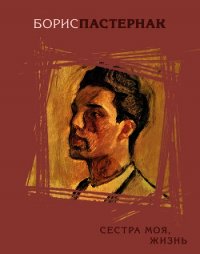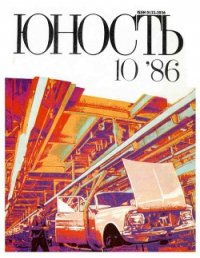Гамаюн. Жизнь Александра Блока. - Орлов Владимир Николаевич (читать книги полностью txt) 📗
Аля осталась в ректорском доме. Три года спустя, после долгих хлопот, она с малолетним сыном получила отдельный «вид на жительство».
Доскажу коротко об Александре Львовиче.
Он сам пустил свою жизнь под откос, накрест перечеркнул все, что хотел и мог бы сделать.
Он навсегда засел в Варшаве. Каждый год, в зимние праздники, появлялся в Петербурге. Ему позволяли навещать сына, – он приходил часто, подолгу сидел в детской, молчал. Все еще пытался уговорить жену вернуться. Она просила развода, он упорно отказывал, пока наконец сам не решил жениться снова. Но и вторая жена – женщина без каких-либо претензий и высоких запросов – после четырех невыносимых лет тайком сбежала от него с маленькой дочкой.
Одинокий, озлобленный, несчастный, он вел совершенно диогеновский образ жизни. Все, что сказано о нем в третьей главе «Возмездия», чистая правда – и сырая, выстуженная квартира, и немыслимо заношенная шуба, и гарпагоновская скупость. И это еще не вся правда. Под конец он совсем одичал. Впрочем, его еще бороли низкие страсти: немолодой профессор по ночам, случалось, забирался через окно в постель какой-то общедоступной блудницы.
Единственное, что осталось ему от прошлого, была музыка.
С уже взрослым сыном Александр Львович считал нужным переписываться и встречаться. Язвительно именовал его «поэтическим сыном», сочинял о нем желчные вирши, но внимательно следил за его выступлениями в печати (выделял стихи о России).
Люди, встречавшиеся с бывшим «Байроном» и «демоном», запомнили его как довольно хлипкого, молчаливого и даже робкого человека с застенчивым, дребезжащим смехом и сбивчивой речью. Так же сбивчивы и его письма – натужно витиеватые, с тяжелыми каламбурами, бесчисленными скобками, кавычками, околичностями.
Он продолжал читать в университете, занимал кафедру в течение тридцати одного года – до самой смерти, в последнее время был деканом юридического факультета. Среди его студентов не было равнодушных – либо ненавистники (громадное большинство), либо горячие приверженцы (единицы).
Слывший когда-то радикалом и богоборцем, Александр Львович превратился в политического мракобеса и богомольного церковника. За два года до смерти он выставил свою кандидатуру в Государственную думу от черносотенного Союза русского народа. Умер со словами: «Прославим господа!»
ГЛУХИЕ ВРЕМЕНА
1
Медленно, тяжко и скучно тянулись – один за другим, один за другим – одинаковые восьмидесятые годы. Безвременье. Реакция. Онемение. Темные годы – стоячие воды…
Крамола задушена. Народная Воля обезглавлена и разгромлена: одни повешены, другие выданы предателем Дегаевым, уцелевшие ушли в подполье или оказались за рубежом. Народничество распадалось и вырождалось, новые революционные силы еще созревали.
«Все заволакивается… – напишет потом Блок. – Победоносцев бесшумно садится на трон, как сова». Вот имя, ставшее знамением эпохи. Самый облик обер-прокурора Святейшего Синода был зловещим: в пятьдесят четыре года казался старцем, высохшим, как мумия, с лысым черепом, пергаментным ликом, узкими, крепко сжатыми губами и торчком стоявшими громадными ушами.
Как только разорвалась бомба на Екатерининском канале, в тот же день, поздно вечером, Победоносцев пришел в Аничков дворец к новому царю со всеподданнейшей мольбой: нужно спасать Россию и первым делом уволить Лорис-Меликова, не уберегшего самодержца и подрывающего самодержавие своими безумными проектами. Александр III, оглушенный разразившимся событием, сразу на это не решился.
Правящие круги охватила растерянность. Вокруг Зимнего и Аничкова дворцов рыли канавы – искали якобы заложенные революционерами мины. Возникла Священная дружина – тайная охранительно-террористическая организация. Придворная знать взяла на себя черную работу – охранять престол и священную особу государя путем сыска, провокаций и физического истребления революционеров из-за угла.
В то же время даже насчет судьбы цареубийц у сановников не было единого мнения.
Лев Толстой написал Александру, что нельзя проливать кровь за кровь. Передать письмо он попросил Победоносцева – как человека религиозного и переводчика книги Фомы Кемпийского «О подражании Христу». Тот отказался наотрез: «Наш Христос – не ваш Христос» – не милосердный заступник, но грозный каратель. Письмо все же дошло до царя (через близкого ему генерала Черевина) и произвело впечатление. Александр задумался: а не приведет ли казнь первомартовцев к новым, уже непоправимым последствиям? Для обсуждения вопроса призвали Победоносцева. У того был один ответ: «Смерть!»
Восьмого марта в заседании Государственного совета под председательством царя в последний раз обсуждался проект Лорис-Меликова, – говорили, собственно, о созыве Земского собора. Этот день стал днем торжества Победоносцева.
Живой мертвец и оборотень, как никто другой умевший прятать свои чувства и мысли, на сей раз дрожа от волнения, поминутно вздымая руки к небу, произнес взвинченную речь, провозгласил анафему всему, что было сделано в шестидесятые годы, настоял на повешении цареубийц и на долгие годы оплел своей липкой паутиной всю Россию.
Таким первый человек в империи навсегда остался в памяти народа: колдун, кощей, паук, упырь-кровосос… Победоносцев – это синоним застоя, неподвижности, мертвенности, могильного успокоения, ненависти ко всему живому и творческому – к мысли, к слову, к достоинству и независимости личности.
Затуманилась, оцепенела и замолчала Россия.
Тем более сильно прозвучал одинокий голос молодого философа Владимира Соловьева. В публичной лекции, прочитанной 28 марта, худущий, гривастый, с горящими глазами на бледном лице, он призвал нового царя последовать христианскому завету всепрощения и тем самым свершить величайший нравственный подвиг. Оратору устроили овацию.
Через пять дней первомартовцы были повешены. А Соловьев заплатил за свой христианский призыв академической карьерой.
В тот самый день, когда в Петербурге выступил Соловьев, в Москве, в Славянском обществе, произнес речь Иван Аксаков. Это было тоже предупреждение, но уже в другом роде: «Мы подошли к самому краю бездны. Еще шаг… и – кровавый хаос».
А потом наступила паучья тишина. В гатчинском затворе сидел «хозяин земли русской», неповоротливый огромный бородач. Всюду торчали нетопырьи уши Победоносцева. У кормила стояли главный распорядитель внутренних дел Дмитрий Толстой, ведавший просвещением Делянов и мастер полицейского сыска Плеве. В печати тон задавали идеологи режима – осатанелый Катков и боголюбивый Константин Леонтьев, убежденный, что полезно маленько «подморозить» Россию.
Восьмидесятые годы – это сочиненный Победоносцевым манифест 29 апреля 1881 года о неуклонном обережении начал самодержавия и «положение об усиленной и чрезвычайной охране»; это «временные правила о печати», зажавшие в тиски русское слово; это новый университетский устав и драконовские «правила для студентов», грозившие непокорным отдачей в солдаты; это введение института земских начальников – опоры престола в деревне; это ограничение суда присяжных, иссушающая мозги «классическая система» гимназического образования, передача низшей школы в ведение Синода в целях укрепления духовно-нравственного воспитания и много чего другого в том же сусально-елейном, православно-полицейском охранительном духе.