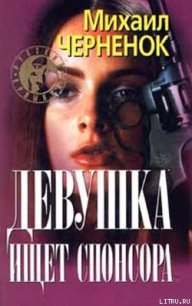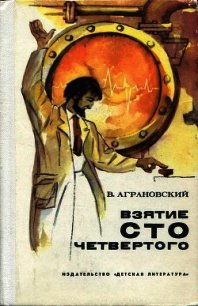Кто ищет... - Аграновский Валерий Абрамович (книги онлайн .txt, .fb2) 📗
Так вот, с «поземкой» писать нельзя. Всегда было стыдно это делать, а сегодня тем более. К сожалению, еще не все журналисты понимают это и потому носят в ножнах слишком легкие перья. Совсем недавно, в феврале 1984 года, я с удивлением обнаружил в одном весьма уважаемом центральном журнале материал под рубрикой «Очерк», который, представьте себе, так даже и назывался «Поземка», да и по содержанию был написан рукой человека из числа тех, которых Б. Н. Агапов называл «публицистами в кавычках». Они заменяют или скрывают свое безмыслие акварельными красками, ложными портиками, кр-р-расотами стиля, всевозможными «поземками» и, как писал Агапов, «выкамаривают пейзажи и петушатся стандартной патетикой». Между тем еще в тридцатых годах А. Диковский заметил, что «проблема распределения сапог в третьем квартале не нуждается в раскраске». Оружие настоящего журналиста — цифра, довод и мысль, что конечно же не исключает, а, скорее, предполагает пользование сочным языком, диалогом, «работающим» пейзажем, ярко выписанным портретом, выверенной композицией и при всем при этом обязательным ведением читателя путем своих мыслей.
В дневнике Л. Толстого есть такие слова: «Художник для того, чтобы действовать на других, должен быть ищущим, чтобы его произведение было исканием. Если он все нашел и все знает и учит… он не действует. Только если он ищет, зритель, читатель сливаются с ним в поисках».
Вот так мы и вернулись «на круги своя»: к выводу о том, что без мысли мы — пусты.
И вновь я должен сказать, что замечательная плеяда современных мыслящих и ищущих журналистов, таких, как Ю. Черниченко, С. Соловейчик, И. Васильев, А. Левиков, А. Злобин, Л. Графова, А. Ваксберг, А. Аграновский, Е. Богат, А. Борин, А. Стреляный и многие, многие другие, родилась не на пустом месте. Были В. Овечкин, Е. Дорош, М. Кольцов, А. Диковский, А. Зорич, А. Д. Аграновский, Б. Агапов, а им предшествовали Г. Успенский, И. Бунин, В. Короленко, А. Чехов…
Можно ли стать талантливым? Говорят, Ю. Олеша, посмотрев однажды на шпроты во вскрытой банке, воскликнул: «Хор Пятницкого!» В чем секрет подобного «видения»? Каков его механизм? Для ответа на этот вопрос не надо производить раскопки и ломать голову: тайна оригинальности писательского видения и восприятия мира лежит в наличии или отсутствии таланта.
Почему только писательского? Чем мы, журналисты, хуже?
Жаль, нет рецепта талантливости, но, по крайней мере, всегда есть возможность развивать свои способности, как, впрочем, и опасность их угробить. Не берусь перечислять все составные журналистского дарования, но две способности, без которых, мне кажется, действительно не может обойтись журналист-профессионал, назову.
Прежде всего умение у д и в л я т ь с я, без которого нет и не может быть прелестной «детской непосредственности», нет радости общения с людьми и жизнью, нет желания остаться наедине с собой, то есть желания думать, нет потребности расширить собственный духовный мир. К сожалению, способность удивляться с годами утрачивается. «Дети — поэты, дети — философы», — утверждает Я. Корчак. А потом? Куда это уходит? Почему умирает? Почему, когда маленькие становятся большими, поэты и философы редкость? — спрашивает писатель Е. Богат, а затем констатирует: — Для меня это один из самых глубоких и трагических вопросов жизни…»
Но в эпоху бурного развития научно-технической революции даже дети перестают удивляться! Когда-то ребенок, глядя на репродуктор, мог спросить, в высшей степени возбудившись: «Папа, там сидит гномик?!» Зато сегодня мой маленький племянник, слушая «живое» исполнение под гитару, спокойно сказал: «Я знаю, папа, у тебя в горле магнитофон». Телевизор, телефон, транзистор, магнитофон, а в недалеком будущем гравитационная куртка, позволяющая летать без крыльев, — кого эти чудеса сегодня удивляют? Мы воспринимаем транзистор, эту «каплю человеческого гения», которую запросто таскаем через плечо, этот «голос мира и человечества», не как великое чудо времени, а как элементарную игрушку (по Далю, «игрушка» — легкое дело) и, между прочим, потому так и гремим транзисторами на всю округу, что они для нас «игрушки», а не книги, которые слушают наедине. Обо всем этом написал Е. Богат в замечательно умной книге «Чувства и вещи» (я во многих местах процитировал его). «Может быть, опаснейшая из девальваций — девальвация чуда», — восклицает автор. Вероятно, и В. Сухомлинский заметил это, потому что стал воспитывать у детей не что иное, как умение удивляться деревьям, журавлиной стае, звездному небу…
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Я, кажется, немного увлекся, но далеко ли ушел от волнующего нас вопроса? Позвольте спросить, что такое журналист, лишенный непосредственности, умения размышлять, да еще с ограниченным духовным миром? Что он может сказать своим читателям?
И еще об одном элементе журналистского дарования, без которого трудно прожить творческой личности: о р а б о ч е м с о с т о я н и и. При внешней простоте и даже банальности эта формула содержит призыв к самоограничению журналиста, к подвижничеству, если угодно, к спартанскому образу жизни. Проще говоря, когда все окружающие безмятежно «наслаждаются», «получают удовольствие», легко отвлекаясь от различных забот, в том числе профессиональных, журналисты продолжают работать, их мозг постоянно «отбирает» и фиксирует то, что предназначено «на продажу» — должно войти в будущий очерк, статью, репортаж и т. д.
Может возникнуть вопрос: как сочетать необходимость удивления с необходимостью сохранять постоянную трезвость ума и рабочее состояние? Вот так и сочетать, вполне диалектично, хотя я не утверждаю, что это легко делать. Но без «рабочего состояния» — кому нужно наше журналистское удивление? А без способности удивляться — как можно использовать наше постоянное стремление писать?
Один крупный математик как-то признался: «Когда я вижу два троллейбуса, идущие навстречу друг другу, я мысленно ставлю между ними знак равенства и получаю прелюбопытное летучее уравнение!»
Творческая личность всегда «работает».
На Алтае в окружении туристов молодой газетчик вместе со всеми наблюдал невероятной красоты пейзаж, открывающийся с вершины, но, не имея времени искренне насладиться, записывал в блокнот увиденное. Его мозг работал. Вдруг журналист заметил крохотный газик, по серпантину ползущий в гору. «Как описать его потом в очерке?» — подумал он и принялся прикидывать варианты с «натуры», пока газик еще находился в пути. «Спичечный коробок на колесах тащился в гору», — написал он первый и самый примитивный вариант и тут же подумал: фи! «Газик, мотор которого имел шестьдесят лошадиных сил, полз по горе…» Тоже «фи»! А что, если лошадиные силы перевести в муравьиные? Туристы, толпой окружавшие газетчика, большей частью безмолвствовали, потрясенные открывшимся видом, и только некоторые от избытка чувств издавали возгласы типа: «Ах, красота какая!» и «Боже, какое чудо!» А журналист тем временем писал в блокнот очередной вариант: «Газик мощностью в несколько миллионов муравьиных сил с трудом полз в гору…»
Не в том дело, удачен или неудачен получился этот итоговый образ, созданный молодым газетчиком, моим добрым приятелем, — рассказанное иллюстрирует мысль о том, что все увиденное нами, услышанное, перечувствованное и пережитое должно идти в наши очерки, статьи, репортажи, зарисовки. Конечная цель журналиста — н а п и с а т ь, поведать людям и миру. Еще Паскаль заметил: «Кто стал бы подвергаться всем тяготам путешествия, если бы не мысль о том, что он, вернувшись домой, будет рассказывать о виденном своим друзьям!»
Мне иногда кажется, хотя я понимаю абсурдность идеи, рожденной излишне профессионально мыслящим мозгом, что только те события имеют смысл, которые происходят на глазах людей творческих, способных зафиксировать их и рассказать о них людям. «Только то существует, что я вижу» — для нас, журналистов, есть даже в этой идеалистической концепции рациональное зерно: мы должны стараться идти не по следам событий, а рядом с ними, быть не за пределами явления, а наблюдать его изнутри, каких бы сил это ни стоило, каких бы тягот и самоограничений.