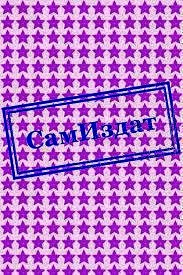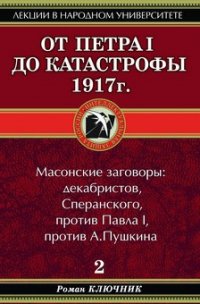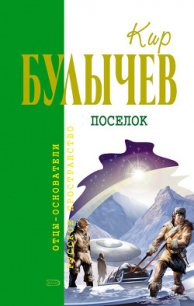Мои воспоминания (в 3-х томах) - Волконский Сергей (читать книги полные TXT) 📗
Пока гости пили чай, мы, дети, в саду около дома ждали выхода: неужели они пойдут гулять, а нас не позовут? Вышло все общество с террасы: впереди моя мать с цесаревной, а бабушка осталась дома. "Сережа! Петя!" -- кликнула мать. Вмиг мы выбежали и, как два пажа, очутились за цесаревной. Пошли дорожками вниз, перешли через Львовский мост, поднялись к старой развалине над крутым берегом реки; спустились к другому мосту, который дети называли "длинный мост", хотя он был не длиннее, а только уже прочих; поднялись к "царской беседке" с бюстом Николая I в память его посещения и оттуда пришли к воротам, которые ведут в лес, где нас ждали экипажи для катания по парку.
Цесаревна была мила, в радостном, почти детском настроении духа. Она рвала цветы направо и налево от дороги; но вдруг увидела землянику -- вот уж прямо как ребенок обрадовалась. Заметив это, мы с братом стали рвать землянику и подавать ей. Очень нас поразило, что она съедала все ягодки, даже самые зеленые... Когда мы сходили по крутой дорожке, что ведет от "царской беседки", я услышал, что она спросила мою мать (они говорили по-французски):
-- Вы его не видели?
-- Нет еще.
-- Я вам его покажу.
Она остановилась и стала раскрывать под шеей медальон. В перчатках, без зеркала трудно было; мать моя помогла:
-- Вы позволите? -- раскрыла медальон и воскликнула: -- Какой красивый мальчик!
-- Кто это, мама? -- спросил я.
-- Это мой сын, -- сказала по-русски цесаревна.
-- Это первые русские слова, которые я слышу от вас, -- сказала моя мать.
Когда подошли к экипажам, мать с цесаревной сели в первый двухместный шарабан, остальные расселись в трех других шарабанах. Мать взяла вожжи и кивнула мне, чтобы я сел на задние козлы. Мы поехали. Какой нарядный звук -- звук колес по мелкому гравию. Фалльский парк огромный; в нем пятьдесят четыре версты дорожек. И как разнообразно: по берегу моря, сосновыми рощами, по зеленым лугам, вдоль реки, над рекою, спуски и подъемы. Я не знаю ничего, что мог бы сравнить с фалльским парком по красоте и прелести...
Цесаревна очень восхищалась, то и дело просила остановиться, чтобы любоваться видом или нарвать цветов. У нее на коленях, когда мы отъехали, лежала синяя кофточка с бронзовыми пуговками с якорями. Мать взяла кофточку, положила мне на колени для хранения. Я заметил в кармане запечатанный конверт с красивым вензелем; ужасно мне захотелось увидеть ее почерк, а также -- кому адресовано письмо. Всю дорогу меня мучило это желание. Но я не посмел перевернуть конверт. Почерк императрицы я впоследствии видал, но кому было адресовано то письмо, останется навсегда неразгаданною тайной...
Когда приехали домой, был обед. Мы, дети, в этот день обедали в доме управляющего, Лильенкампфа... После обеда цесаревна лопатою, которой сажал свою березу Николай I, посадила каштан. Когда она очищала свои перчатки от земли, мать вынула у меня из кармана носовой платок и им обтерла ей руки.
Вот все, что могу припомнить. Конечно, после отъезда было много разговоров, делились впечатлениями дня. Заметил, что когда говорили о Жуковской, то как-то понижался тон; мать сказала: "Она, бедная, конечно, садилась отдыхать на каждую скамейку". Много, много лет спустя я узнал, что она в то время была беременна от великого князя Алексея Александровича, что только за несколько дней перед тем они просили императрицу разрешить им повенчаться, но разрешения не получили. Она родила сына Алексея, который получил фамилию графа Белевского. Хотя я в то время ничего не понимал, но это-то я понимал, что не надо спрашивать старших, о чем они говорят, когда они говорят этим тоном. Только почему старшие не могут подождать, чтобы дети ушли, если им хочется говорить о таких вещах, о которых дети не имеют права переспросить?.. Вечером того же дня -- сейчас вспоминаю, что это было 10 июля 1871 года, -- когда мы с братом ложились спать, пришел к нам в комнату старый дворецкий Николай Рыбаков поделиться и своими впечатлениями. Он говорил вполголоса, трагическим шепотом:
-- А какое упущенье!..
-- Что такое?
-- А все Эдуард виноват. (Это другой слуга.)
-- Да что же случилось?
-- Да ведь мы с ним уговорились, что он будет вилками и ножами заведовать, а он вот какой оказался недосмотрительный.
-- Что же?
-- Обнес я горошек. Смотрю: цесаревна не ест; на тарелке горошек, а сама не ест. Что, думаю, такое? Гляжу: а вилки-то у нее нет. И ведь не спросила, -- вот какая нежная!
Это была единственная задоринка в церемониале этого сложного дня.
В Фалльском доме, таком светлом, приветливом, есть одна комната, в которую мы, дети, входили с некоторым страхом, -- мрачная, молчаливая, в которой никогда никто не сидел. Это был кабинет моего прадеда Бенкендорфа. Перед большим письменным столом большое с высокой спинкой кресло; на столе бронзовые бюсты Николая 1, Александра I, родителей Бенкендорфа. Вообще много бронзы -- модели пушек, в маленьком виде памятники Кутузову и Барклаю де Толли; пресс-папье -- кусок дерева от гроба Александра I, обделанный в бронзу, увенчанный короной. Много портфелей с гравюрами, планами; высокие шкафы с книгами, медали в память двенадцатого года. "Царей портреты по стенам".
Висела там известная акварель Кольмана -- декабрьский бунт на Сенатской площади: бульвар, генералы с плюмажами, с приказывающими жестами, солдатики с белыми ремнями по темным мундирам, и в пушечном дыму памятник Петра Великого. Как любопытно думать, что стоял перед этой картиной, смотрел на нее мой дед декабрист, когда по возвращении из Сибири проводил лето 1863 года у тещи своего сына... В этой комнате все вещи как-то особенно молчали. Там пахло стариной, большей давностью, чем в остальном доме; там всегда хотелось спросить кого-то: "Можно?" А между тем там никогда никого не было. Из единственного окна виден водопад; на той стороне реки, на горе сквозь деревья виднеется "изба" -- дачный домик, который одна старушка, баронесса Милинька Саккен, называла "das Schweizerhaus im rassischen Stil" (швейцарский домик в русском стиле).
Милинька Саккен! Какое дальнее воспоминанье! Ближайшая соседка Фалльская. По ревельской дороге в шести верстах большой белый казарменный дом с двумя пузатыми башнями по концам -- Фена называется. Там она жила, незамужняя тетка владельца Штакельберга, и вела его хозяйство, сочетая предписания бережливости с поползновениями знатности. Маленькая, с красным носом на сморщенном лице, держалась прямо, с отменной выработанностью форм общежития: каждому поклон, каждому привет, каждому подобающее слово. Ее входы и выходы, приезды и отъезды, это были своего рода церемониалы. Расточая приветствия, как бы раздавая себя, она в то же время высоко держала голову, увенчанную невероятно большой прической, в которой были и локоны, и ленты, и сетка, и банты. Никогда не видал ее иначе; она говорила, что с утра одета так, что может принять императора. Она своеобразно говорила по-французски. Так, она сидела на балконе своего казарменного дома, глядела на большую дорогу, ожидая возвращения посланного из Ревеля; но она называла его не посланным, а "вестником" -- "le messager". Штакельберг занимался молочным хозяйством; желая похвастать тем, что цены на молоко у ее племянника растут, она сказала: "Et chez Ernst le lait monte toujours" (А у Эрнста молоко все поднимается, то есть что по-французски говорят о кормилицах). На одном из окон в Фалле стояла маленькая бронзовая статуэтка -- Меркурий Джамболонья; как известно, юный летящий бог без всякого прикрытия. Милинька Саккен называла его "la petite danseuse" (маленькая танцовщица). Она иногда страдала одышками, кровь ударяла ей в голову; она называла это "des bouffons" ("шутники", вместо "bouffees")... Сколько образов прошло через детство; прошло и кануло туда, в темную пучину прошлого... Вспомнил о Милиньке Саккен по поводу избушки, выглядывающей из-за леса над водопадом. В этом лесу, далеко от дома, на горе фалльские могилы.