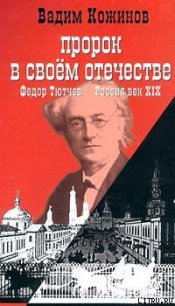Плен в своём Отечестве - Разгон Лев Эммануилович (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .TXT) 📗
У нас на лагпункте среди арестованных оказался начальник электростанции – Олег Стаскевич. Это был молодой человек иронического склада ума, имевший – невзирая на свою молодость – уже какую-то сложную доарестантскую биографию. И на язык он был невоздержан. Мы с ним жили в одной «кабинке» – маленьком бараке, человек на пятнадцать. Вот Олега порешили сделать одним из продуктов их оживленной, способствующей обороноспособности страны деятельности. Стаскевича арестовали, а тех, с кем он общался, стали таскать в Хитрый домик, как называют специально построенное в зоне помещение для «опера»: маленький дом с отдельным входом и выходом.
Нашему «оперу» – Чугунову – очень хотелось сделать меня свидетелем. Для этого ему надо было «подобрать под меня ключи», и делал он это по привычному и нехитрому трафарету. Ночью меня забрали, посадили в карцер, утром предъявили обвинение в том, что я в присутствии таких-то и таких произнес длинную и пылкую речь, в которой призывал Гитлера как можно скорее победить большевиков, освободить Россию, а с нею, естественно, и меня. Следствие вертелось, как может вертеться примитивная, хорошо смазанная и отработанная машина. Негодующее заявление одного свидетеля, показания других, очные ставки… Было довольно смешно читать выспренние, полные патриотических фраз из передовиц, показания малограмотных мелких воришек, «шакалов», дошедших в лагере до последнего предела падения и унижения. Но смеяться было не к чему – я же понимал, чем все это кончится. Через несколько дней Чугунов закончил следствие, дал мне подписать «двести шестую» и тогда приступил к главному. Он предложил мне подписать уже написанное им готовое показание на Стаскевича и дал мне «честное слово коммуниста» – так ведь и сказал!! – что он после этого мое дело тут же, на моих глазах бросит в печку…
Как пишут в коммюнике, – «стороны не пришли к согласию» – и разгневанный «опер» дал естественный ход делу. Меня, как числящегося «за судом», этапировали на другой лагпункт, а после того, как я там месяца два походил на повал, в суде дошла очередь и до меня (эта очередь была довольно длинной, и в ней никто не рвался вперед). Этап потопал в Вожаель. Был февраль сорок второго года, только что прошедшая метель уничтожила все дороги, перемела лежневки, конвой вел меня и ещё троих отказчиков по сугробам, по еле выдающимся вешкам, обозначающим трассы бывших дорог. Шестьдесят километров мы прошли за четыре или пять дней, ночуя в карцерах лагпунктов, лежавших на нашем пути. Это было очень важное для меня путешествие, потому что мне не на что было надеяться, и я мог думать обо всем: о своей жизни, о жизни других людей, обо всех моих поступках и верованиях, с полной свободой, ни на что не оглядываясь, не пытаясь нисколечко хитрить с самим собой.
Нас довели до Вожаеля, посадили куда надо и через два дня судили. Суд был если и не справедливый, то во всяком случае – скорый. Из набитого коридора, где толпились абитуриенты, меня вызвали в суд, и через полчаса я получил новый срок за «пораженческую агитацию в военное время». Был уже вечер, когда меня вели из суда по вольнонаемному поселку на Комендантский лагпункт. Я знал, что теперь меня отправят на штрафной и я, очевидно, никогда больше не увижу этот нормальный человеческий мир, каким он мне представлялся сейчас, за марлевыми занавесками освещенных домов. Над столами, застланными белыми скатертями, свисали оранжевые абажуры, сшитые из марли и окрашенные красным стрептоцидом. Силуэты женщин и детей свободно и легко передвигались в этих комнатах, на столах расставлялась какая-то снедь. Они ждали прихода с работы хозяина, чтобы ужинать… Было что-то кроткое, домашне-умиляющее, просто что-то диккенсовское в этих мелькавших картинках быта жизни семейных тюремщиков. Но я не помнил, что здесь живут тюремщики. Для меня это был старый, добрый, милый мир, из которого я навсегда должен был уйти. И я прощался с ним, потому что меня из него уводили, и я считал, что у меня не хватит сил, чтобы дождаться возвращения в него.
…Люди обычно считают себя слабыми и совершенно не знают свою физическую пластичность, свою фантастическую приспособляемость к почти любым условиям. Мне казалось, что есть предел усталости, когда исчезают желания и возможность сопротивляться обстоятельствам. Я ещё так думал потому, что видел многих совсем молодых людей, которые, как мне показалось, – устали жить и от этого умирали.
Это было весной 1939 года. Меня, полуживого, покрытого – как леопард – большими черными, не проходившими много лет пятнами цинги, привезли на Головной с подкомандировки, где я провел зиму. Спас мне жизнь один красивый и необыкновенно занятный авантюрист, который работал врачом и которому я чем-то показался. У него было три года, он освобождался и приехавшего ему на смену врача попросил меня найти и, если я ещё жив, помочь выжить. Новый врач – Александр Кузьмич Зотов – был тоже довольно редкостным типом, может быть, я о нем расскажу. Он заявил Заливе, что ему необходим в качестве помощника студент, медик-пятикурсник… и назвал мою фамилию. Меня разыскали на командировке, положили на подводу и привезли в госпиталь на Головной.
Госпиталем назывался совершенно обыкновенный барак, в котором на нарах лежали и умирали дистрофики. Зотов быстро привел меня в порядок – он меня кормил так, как жена людоеда откармливала мальчика-с-пальчика… А когда я пришел в себя, раскрыл передо мною роскошную перспективу превращения меня в «лепилу» – медицинского работника. Пока я числился в слабкоманде, он меня назначил – как он пышно меня называл – ординатором. Это означало, что я оставался один дежурить ночью в огромном бараке. Три недели моего ординаторства, наверное, были самыми страшными в моей жизни. Обязанность моя была довольно несложна. Мне оставляли шприц и три (никогда больше) ампулы камфары. Я мог их впрыскивать умирающим – по моему собственному выбору. Затем обходить нары и, когда замечал уже умерших, закрывать им глаза и связывать кусками бинта руки и ноги. Первая операция производилась по традиции и из эстетических побуждений, вторая же имела чисто практический смысл: мертвеца с наступившим трупным окоченением было удобнее бросать в ящик, – вывозить на кладбище.
Ампулы, в которые я наивно верил, я старался тратить на молодых – мне их было больше всего жаль. Но я видел юношей-подростков – главным образом из «осколков» (как поэтически-образно называли на Лубянке детей уничтожаемой партийно-государственной элиты), – которые умирали в полном сознании и без малейших признаков страха перед наступающей смертью. Они были как столетние старики, уставшие от длинной жизни и рассматривавшие смерть как отдых. Эти 17-18-летние мальчики уже так устали от арестов, обысков, допросов, этапов, голода, холода, непосильного труда, они так от этого устали, что не боялись, что все кончится. Никаких попыток удержаться у этих мальчиков уже не было, и когда я впрыскивал камфару, то они мне совершенно спокойно говорили:
– Зачем? К утру я уже умру…
А утром приходил начальник санчасти – высокий прыщеватый молодой фельдшер в форме младшего лейтенанта. Он вызывал меня и, деловито вынимая из кармана записную книжку, спрашивал:
– Сколько за ночь летальных случаев?
И аккуратненько записав – 15 или 20, а то и больше уходил. И больше уже в больничный барак не показывался.
…Так вот: я думал, что у меня наступает то исчезновение сопротивляемости, которое я видел у этих умирающих мальчиков. Потому что я прощался с этим миром спокойно, без особого страха, просто с сожалением, с легкой, что ли, грустью. «Печаль моя светла, печаль моя легка…» Потом я понял, что все это не так. Бедные дети в бараке умирали, как столетние старики от того, что были смертельно больны – от цинги, пеллагры, дистрофии, никем не замечаемой пневмонии. Их же никто не лечил, им и температуру не мерили, а если бы и мерили, то она у них была бы ниже нормальной: у дистрофика все жизненные процессы протекают не так, как у здорового человека.