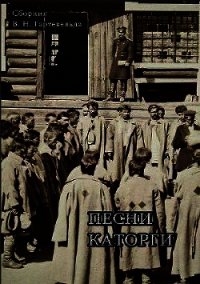Юлия Данзас. От императорского двора до красной каторги - Нике Мишель (бесплатная библиотека электронных книг TXT, FB2) 📗
В результате возникло еще более полное слияние государства и Церкви, причем в пользу Церкви. Часто говорят, что русское христианство унаследовало византийский цезарепапизм. Это было не так для целой эпохи, продолжавшейся до конца XV века. Не светская власть, погрязшая в кровавых междоусобицах средневековой Руси, а именно Церковь сохранила идею государственного единства и в итоге насадила ее руками светской власти, укрепив своим авторитетом московских князей. Кроме того, в только что построенном московском государстве именно Церковь продолжала оставаться краеугольным камнем и смыслом существования всего общественного здания; именно принадлежность к этой Церкви была по-прежнему единственным знаком гражданственности, и авторитет главы этой Церкви – митрополита Московского – значительно превышал авторитет правящего князя. Так было даже тогда, когда в России начала складываться идея о византийском наследии, на которое Россия могла бы претендовать не только на духовном уровне. Такая идея была совершенно чужда Киевской Руси, считавшей себя частью целого. В Москве же изолированность от остального, римского или византийско-римского, мира, порождала ощущение сплоченности, накладывающееся на понятие христианского государства, которое, как считалось, здесь и создается. Отсюда идея, сначала весьма смутная, что мы, чтобы это реализовать, должны прийти на смену Византии, лишившейся своего величия (да еще и заподозренной в предательстве веры предков своими попытками единения с Западом). Идея оформилась лишь после окончательного падения Византии, но тогда она приобрела империалистический характер, а это неизбежно влекло за собой изменение отношений Церкви и государства. Священный характер, приписываемый государству, тут приобрел новый блеск и повысил авторитет государя, который становится теперь символом почти таким же, каким были византийские базилевсы. Власть государя воспарила над церковью, потому что в ней отныне воплощалась уже новая идеология.
Мы, действительно, можем говорить о русском цезарепапизме на протяжении всего XVI века. Не будем останавливаться здесь на всем перечне доказательств. Достаточно сказать, что такой перенос священного авторитета на монарха имел глубокие последствия для патриотической идеологии, которая до сих пор была неотделима от христианского сознания. Эпоха цезарепапизма при Иване III или Иване IV [Грозном] совпадает с проникновением в страну иноземных элементов, либо через приезд западных художников и специалистов, нанятых Москвой, или же, главным образом, через непрекращающиеся завоевания, инкорпорировавшие в новую империю иноверческие народы – в частности, мусульман. У московского государя было теперь множество подданных, уже не восприимчивых к религиозным традициям страны, и принадлежность к государственной церкви перестала быть единственным признаком гражданственности. Можно было быть верным подданным царя, не будучи ни православным, ни даже христианином. Часто считают, что это новое обстоятельство возникло позже, в эпоху Петра Великого и массового привлечения в страну иноземных элементов. В действительности же все началось на столетие раньше, во время великой русской экспансии в Азию и завоевания обширных территорий, населенных мусульманами или язычниками. Это уже не было, как в прежние времена, ассимиляцией диких племен, быстро растворявшихся в русской стихии, – теперь это были целые народы, уже прочно сформировавшиеся (как, например, волжские татары), образующие этнические группы с собственными священными традициями, которые Церковь уже не могла поколебать. И теперь уже не ей, не Церкви, принадлежала решающая роль в работе по ассимиляции, а государству, и главными инструментами такой работы были русский язык, уже образовавшийся из церковнославянского, – и гражданское управление. Именно в этот момент можно зафиксировать появление национального чувства, основанного на понятии империалистического государства, а не христианской общины. Как и прежде, понятие расы и кровного родства не играло здесь никакой роли: в этом царская империя действительно была наследницей Византии и ее римских традиций, инстинктивно сохраняемых. Но теперь это уже был огромный общественный организм, объединивший разрозненные элементы в общности интересов; территориальные завоевания были уже достаточно прочными, чтобы создать единство даже такой протяженной территории; русская культура была еще в зачаточном состоянии и потому легко усваивалась народами примитивной культуры, внедряясь в них своим относительным превосходством. И империалистическая идеология, вдохновлявшаяся воспоминаниями о Византии, была достаточно сильна, чтобы скрепить различные части этого огромного здания и придать ему смысл существования. Мы уже говорили, что уже некоторое время это был примат государства над Церковью. Но само государство еще не успело создать собственных, внецерковных традиций, так что новое положение не вылилось в новые формулы. Абсолютный государь, в сущности, господин церкви, продолжал говорить о ней, как если бы он был ее послушным сыном. Империалистическая идеология переняла язык прежней, теократической, идеологии. На словах государство было всегда и прежде всего земной оболочкой христианской общины, хотя реальность была уже совсем другой. Эта реальность, столь плохо совместимая с официальными формулами, не очень бросалась в глаза современникам, и они продолжали отождествлять государство и Церковь и считать себя русскими, потому что они христиане, или христианами, потому что они русские. Прозелитизм среди иноверных элементов чаще всего проходил в форме крещения, которое становилось чем-то вроде официальной гербовой печати, подтверждающей полноту гражданских прав, уже приобретенных через принадлежность к государству, которое официально было христианским. Новый патриотизм, объединивший огромное скопление людей в протяженную и могущественную империю, сохранял внешний религиозный вид, как в те времена, когда идея родины была еще неотделима от понятия государства как христианского Града. Религиозные умы легко обнаруживали, что христианство, которое государство сделало своей официальной формулой, было нередко всего лишь видимостью. Помимо большого числа иноверцев, не имевших даже свидетельства о крещении, постоянно можно было наблюдать еще и факт «двоеверия», когда языческие верования сохранялись под внешней оболочкой христианства. Тревожило и состояние самой Церкви, которое современные документы рисуют в довольно мрачных тонах, единодушно сетуя на некомпетентность и невежество духовенства, жестокость нравов и т. д. Но как бы ни было все это далеко от идеала христианской общины, все же верили в определенное осуществление этого идеала в форме государства, которое провозглашало себя его хранителем. Этого было достаточно для того, чтобы русский национализм в процессе формирования приобрел религиозный аспект и вдохновлялся признаками священного, до сих пор принадлежавшими государству, а не нации. Этот национализм был по существу своему религиозным именно потому, что основывался не на понятии расы, а на понятии священного государства, идеал которого принимался просто по факту принадлежности к нему в качестве подданных, без оглядки на расовое происхождение и не углубляясь в те религиозные доктрины, которые государство исповедует. Подлинным основанием такого национализма стала мессианская идея Третьего Рима, идея империалистическая, лишь подкрашенная в христианские цвета. И именно потому, что она представляла собой общественный идеал, а не корпус вероучений, она и была так легко воспринята иноверными элементами, ассимилировавшимися фактом своего крещения или даже и без такой формальности. Достаточно вспомнить, сколько верных служителей этого идеала вышло из рядов татарской аристократии, быстро смешавшейся с русской аристократией после завоевания татарских Казанского и Астраханского ханств в XVI веке. То же самое явление должно было произойти и в XVIII веке для немецкой аристократии, выходцев из древних тевтонских рыцарей, которая, после вхождения в империю, дала так много преданных служителей имперской идее. Но если понятие государства с XVI века начало поглощать примитивное понятие священного наследия, то отношения светской и духовной власти так и не смогли никогда окончательно слиться в синтез, символизируемый фигурой монарха, облаченного признаками священного, как это было в Византии. Мы видели, что русский XVI век можно считать периодом осуществления цезарепапизма; однако даже в это время de jure царь не провозглашался главой Церкви: он был им лишь фактически. Так же, когда императорская власть захотела и добилась воздвижения в Москве патриаршего престола – чтобы ознаменовать важность новой империи, поместив ее церковь в ряд древнейших восточных церквей, – то такое учреждение реального главы Церкви немедленно создало затруднения для светской власти и привело к обратному эффекту: в XVII веке установился примат духовного, и авторитет монарха оказался в тени авторитета патриарха. Национальному чувству придется выбирать между двумя решениями проблемы священного государства.